 |
Виктор Аверин
«Дубр» был за нами
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Москва. 1971
111 с. с илл. Тираж 100 тыс. экз. Цена 13 коп.

СОДЕРЖАНИЕ
Вестник из сорок первого [в]
«Невский пятачок» [н]
Продолжение главы — «Невский пятачок»
Письма с плацдарма
Тот, кто командовал ротой
«Я солдат еще живой»
По старым адресам
Трубач выходит на перекличку
Пистолет политрука
Он подносил патроны
Политехники в бою
«Позвоню из Берлина»
«Прощай на всякий случай»
Мы выросли. Мы помним.
Бессмертная рота

Стр. 2—17
Пароходы, приближаясь к этому месту, дают протяжные гудки, и люди молча обнажают головы... В дни обороны Ленинграда этот маленький, неприступный для врага левобережный плацдарм у Невской Дубровки был назван «Невским пятачком». О героических защитниках «пятачка» рассказывает в своем очерке ленинградский журналист Виктор Аверин.
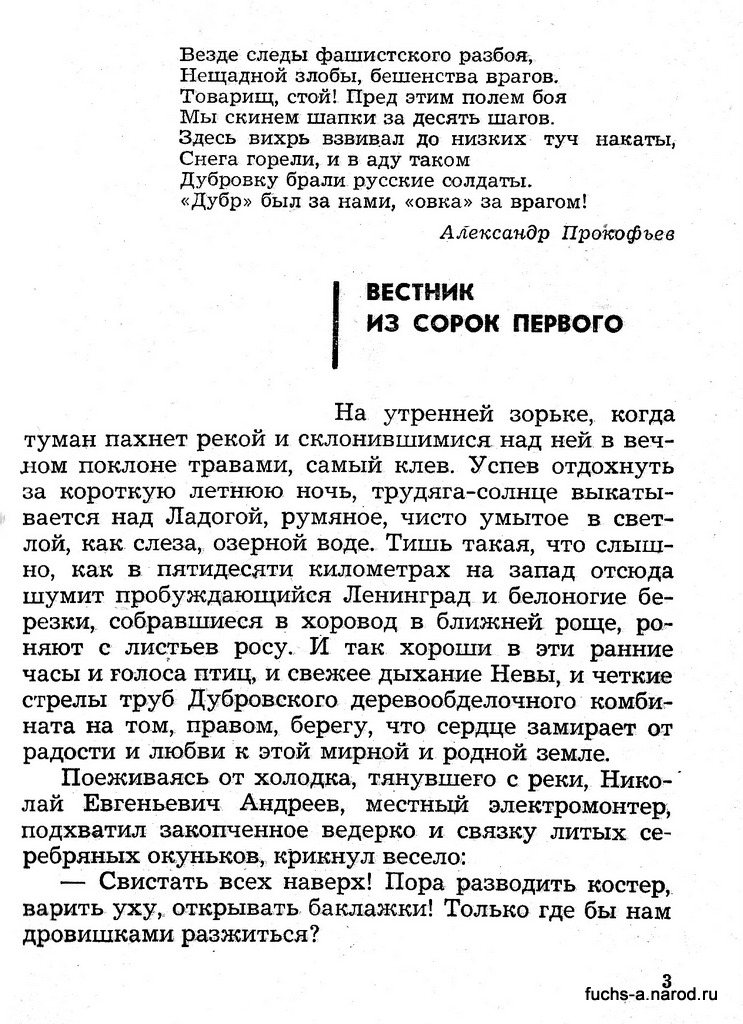 Везде следы фашистского разбоя,
Везде следы фашистского разбоя,
Нещадной злобы, бешенства врагов.
Товарищ, стой! Пред этим полем боя
Мы скинем шапки за десять шагов.
Здесь вихрь взвинтил до низких туч накаты,
Снега горели, и в аду таком
Дубровку брали русские солдаты.
«Дубр» был за нами, «овка» за врагом!
Александр Прокофьев
ВЕСТНИК ИЗ СОРОК ПЕРВОГО
На утренней зорьке, когда туман пахнет рекой и склонившимися над ней в вечном поклоне травами, самый клев. Успев отдохнуть за короткую летнюю ночь, трудяга-солнце выкатывается над Ладогой, румяное, чисто умытое в светлой, как слеза, озерной воде. Тишь такая, что слышно, как в пятидесяти километрах на запад отсюда шумит пробуждающийся Ленинград и белоногие березки, собравшиеся в хоровод в ближней роще, роняют с листьев росу. И так хороши в эти ранние часы и голоса птиц, и свежее дыхание Невы, и четкие стрелы труб Дубровского деревообделочного комбината на том, правом, берегу, что сердце замирает от радости и любви к этой мирной и родной земле.
Поеживаясь от холоди, тянувшего с реки, Николай Евгеньевич Андреев, местный электромонтер, подхватил закопченное ведерко и связку литых серебряных окуньков, крикнул весело!
— Свистать всех наверх! Пора разводить костер, варить уху, открывать,баклажки! Только где бы нам дровишками разжиться?
— А я еще с вечера бревно приметил. Вон там из земли торчит,— сказал постоянный спутник Николая Евгеньевича по рыбалке инженер одного из ленинградских заводов Виктор Васильевич Самарин и махнул рукой в сторону берегового откоса.
Оставляя на росной траве темный след, рыбаки зашагали к откосу. Поднатужившись, вырвали бревно из глины, заглянули в черную пустоту под ним — и невольно отпрянули, увидев выбеленный временем череп. Словно сама война, давно уже отгремевшая, уставилась на них пустыми глазницами, дохнула в лицо смертным тленом.
Побледнев, притихнув, стояли друзья над тем, кто в далекие времена встретил здесь свой последний час. Он и сейчас оставался солдатом: на черепе, пробитый навылет шлем, рядом проржавевшая граната в оборонительном чехле и туго набитая кирзовая полевая сумка, успевшая наполовину истлеть.
И померкло для рыбаков солнечное росистое утро, и совсем другой увидели они землю, только что дышавшую миром и покоем. Там, где была сделана страшная находка, они различили остатки солдатской землянки, разбитой, очевидно, снарядом. В глаза бросились и заросшие сочной муравой бомбовые воронки, чудовищную глубину которых не могло сгладить даже время, и россыпь позеленевших стреляных гильз у самого уреза невской воды, и овраг с безымянным ручьем, заваленный военным хламом: рыжими от ржавчины касками нашего и немецкого образца, пустыми пулеметными лентами, ребристыми круглыми коробками вражеских противогазов, обломками штыков...
Да, горяча была, видно, схватка, кипевшая здесь, на крутом откосе невского берега, и не одного своего сына, ушедшего в этот бой, не досчиталась и оплакала потом Родина-мать...
Трудно было вернуться невредимым с этой земли, которая во всех направлениях иссечена глубокими, незаживающими шрамами траншей и ходов сообщения и, словно лунная поверхность, изрыта малыми и большими кратерами, осьпинами и воронками. Спасаясь от беспощадного огня, сметавшего с этого страшного поля все живое, люди теснились в узкой и глубокой лощине, по которой бежал ручей.
На склонах оврага сохранились остатки блиндажей. В одном из них разбросаны обрывки разноцветных проводов и коричневые пластмассовые коробки полевого телефона, состоявшие на вооружении германского вермахта. Полсотни шагов — и опять осевшая землянка. По клочкам солдатского белья и вафельных полотенец нетрудно определить, что здесь находилась красноармейская баня. Вот целая горка оперенных черных мин для советского ротного миномета и совсем рядом — груда длинных латунных гильз от фашистских противотанковых снарядов. С немецкой аккуратностью на них обозначен год выпуска — 1940 и калибр — 37 миллиметров. Тут же белые алюминиевые патроны осветительных ракет. С той же дотошной пунктуальностью на них указано, что выпущены они в декабре 1938 года, а использовать их следует — день в день! — до 31 января 1945 года.
До утренней зари передний край был залит мертвенным светом таких ракет. Но срок их годности далеко еще не истек, когда фашисты, панически боявшиеся русской ночи, навсегда распрощались в этом безымянном овраге с жизнью. Кости завоевателей, прошагавших по всей Европе в своих тяжелых, подбитых стальными шипами сапогах, дотлевают сейчас здесь вместе с обломками хваленых немецких шмайсеров, карабинов и ручных пулеметов «МГ-34», которые наводили страх на всех — от Нарвика до Ливии. Здесь, около неизвестной миру Дубровки, произошла осечка...
Солдат, останки которого обнаружили ленинградские рыбаки,— один из тех, кто оставил бесперебойно действовавшую фашистскую военную машину, кто не оробел перед вражеской силой и противопоставил ей свою силу.
Кто ты, воин, донесший до нас вести со старого поля боя? Откуда родом?
Долго рылись в земле рыбаки, но не нашли ни красноармейской книжки, ни черного воинского медальона, в который солдаты вкладывали узкую полоску бумаги с указанием года и места своего рождения, призыва в армию, адреса семьи и группы крови по Янскому...
Бумаги, хранившиеся в полевой сумке, четверть столетия пролежали в земле, приобрели ее оттенок и рассыпались в руках. Дотронуться до них казалось святотатством. Только счастливая случайность — крутой береговой склон, на котором не застаивалась снеговая и дождевая вода, да грунт — перемешанная с песком тяжелая глина — сберегла их от времени и тлена.
Рыбаки расстелили на земле плащ, разложили на нем ветхие листки, стали разбирать слепые, размытые влагой и временем строки.
Именной список яичного состава четвертой стрелковой роты второго отдельного стрелкового батальона 11-й бригады. Две с лишним сотни русских, украинских, татарских, казахских фамилий с указанием года рождения, специальности, образования, срока службы в Красной Армии, домашнего адреса.
Списки взводов. Список выбывших в санчасть по ранению и болезни. Список представленных к званиям «младший сержант» и «ефрейтор». Отчетные стрелковые карточки и другие служебные документы. И письма. Письма ленинградцев-фронтовиков в родной город, обложенный врагами, но не сдающийся, не запросивший пощады.
Их писали в канун 24-й годовщины Великого Октября, готовясь грудью прикрыть завоевания отцов, бессмертное ленинское дело. Писали, ничего не скрывая и не лукавя, ибо наутро предстоял бой, из которого далеко не всем суждено было вернуться.
Дорого бы дали враги за то, чтобы завладеть этими документами, поименно называвшими героев, которых не удалось сломить «покорителям Европы»! И о многом бы заставили задуматься гитлеровцев письма бойцов четвертой роты. О том, например, что этих солдат победить нельзя: за их спиной стонал от голода, превращался в руины их родной город, а они не сомневались в том, что возьмут Берлин и принесут свободу человечеству...
Над сраженным письмоносцем грохотали бои, скрежетало оружие, вырастали огненные кусты гранатных разрывов. Потом наши отошли на правый берег Невы, а сюда, на бывшую окраину бывшего села Арбузова, пугливо озираясь по сторонам, вступили враги. Но он и мертвый не выдал им свою тайну. Лежал в разрушенном блиндаже с полевой сумкой у бедра и гранатой под рукой. Прошло время — и через него снова хлынула бесстрашная и яростная советская пехота, расчищая себе дорогу штыками. A он все молчал. Молчал и тогда, когда тишина воцарилась на невских берегах, и тогда, когда здесь раздался стук топора и на пепелище разрушенной и сгоревшей дотла Московской Дубровки стал подниматься город ленинградских энергетиков — Кировск.
Только теперь настало время ему заговорить.
Четверть века этот бессменный часовой охранял доверенную ему тайну. Пусть теперь люди узнают, что ты сберег для нас, что принес нам из сорок первого.
Рыбаки прикрыли останки воина землей, отметили невысокий холмик старой солдатской каской и, позабыв про уху, молча зашагали к автобусной остановке.
Бумаги, найденные на старом поле боя, Виктор Васильевич Самарин принес на ленинградский корреспондентский пункт газеты «Советская Россия». Вместе с рыбаками и работниками военкоматов журналисты пытались установить имя погибшего письмоносца, чтобы похоронить его, как подобает. Однако сделать это оказалось не так-то просто, ибо на месте гибели бойца не было ничего, что могло бы помочь установить его личность. Тогда дошла очередь и до бумаг, хранившихся в полевой сумке, В надежде, что авторы и адресаты старых солдатских писем помогут нам, мы начали их поиски.
«НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
Место, где Николай Евгеньевич Андреев и Виктор Васильевич Самарин нашли старую полевую сумку, в годы минувшей войны гремело по всему Ленинградскому фронту. Знали о нем и волховчане, много раз пытавшихся вместе с ленинградцами высадить немецкую пробку из «бутылочного горла» — узкого клина, вбитого командующим германской группы армии «Север» фельдмаршалом Риттером фон Леебом в советскую оборону от железнодорожной станции Мга к южному побережью Ладожского озера.
Всего какой-то десяток километров отделял здесь друг от друга передовые линии Ленинградского и Волховского фронтов, но потребовалось почти полтора года, чтобы пройти эти огненные километры. Полтора года били волховчане по фашистскому «бутылочному горлу» с востока, а ленинградцы — со стороны своего крохотного плацдарма на левом берегу Невы, напротив рабочего поселка Невская Дубровка.
В течении долгих месяцев на этом перепаханном снарядами клочке земли, не затихая почти ни на минуту, грохотал бой. «Невский пятачок», как прозвали его бойцы, стал школой мужества, символом бесстрашия, железной стойкости и презрения к смерти, которыми ленинградцы поразили и восхитили мир. Здесь дрались храбрейшие из храбрых, здесь стояли на смерть. ибо на этом поле боя во многом решалась судьба города трех революций — Ленинграда. Отправляя осенью сорок первого своих пехотинцев на левый берег Невы, один из замечательных героев ленинградской обороны — командир славной 168-й стрелковой дивизии полковник А. Л. Бондарев так напутствовал их:
— Вы обязаны хорошо осознать, что от каждого из вас зависит успех наступления, что на «Невском пятачке» идет сейчас главная битва за Ленинград!
И красноармейцы хорошо сознавали это. Только отсюда можно было прорвать блокаду, восстановить сухопутную связь города со страной. Пробиться навстречу войскам Волховского фронта сквозь прочную вражескую оборону с небольшого открытого плацдарма, где нельзя прибегнуть ни к маневру, ни к удару с фланга, было чрезвычайно трудно. Но солдаты «малой земли», ведомые коммунистами, снова и снова бросались на врага, штурмовали его укрепления. Для гитлеровских войск, обложивших Ленинград, невский левобережный плацдарм превратился в кровоточащую рану. Одна немецкая дивизия за другой спешили к берегам этого будто заколдованного омута и бесследно исчезали в нем.
Когда стихал орудийный гром и на брустверах оседала поднятая пулеметными очередями пыль. в залитых водой окопах Синявино, в блиндажах под Пулковскими высотами было слышно, как у Дубровки, словно в старые времена на деревенском току в разгар уборочной страды, идет нескончаемая молотьба. Только не снопы там клали... И шел по цепи тревожный и горделивый шепот:
— Слышь, как наши немчуре дают жару? Фрицы-то говорят, Дубровку вторым Верденом прозвали...
— А что такое «верден»?
— По-нашему, по-русски, мясорубка...
Все дальше уходит от нас война. Дни повзводно выстраиваются в месяцы, месяцы — побатальонно в годы. Но не слабеет горечь утрат, и никогда не изгладятся из памяти человечества богатырские дела нашего народа, сокрушившего гитлеризм. Года идут, а люди продолжают узнавать о новых и новых героях, прославивших на полях битв русское оружие, и подвиг отцов по-прежнему вдохновляет потомков.
Над полем русской бранной славы сейчас тишина. Осыпались старые окопы, илом затянулись воронки, переполненные ржавой болотной водой. По их краям, тужась изо всех сил, тянется к небу сорное, бросовое дерево — мелкая ольха. Камня на камне не осталось от бывших деревень. Только бурьян, буйно разросшийся на пепелищах, свидетельствует о том, что здесь когда-то жили люди.
За последние годы окрепли, принарядились, раздались вширь новые селения. На земле, превращенной войной в пустыню, как грибы после дождя, вырастают дачи горожан и добротно рубленные крестьянские дома. А на старые обжитые места, видно, и возвращаться было некому. Только ветер свистит над обвалившимися блиндажами, над ржавыми спиралями колючей проволоки.
По всей двухсоткилометровой дуге фронта, который в течение девятисот дней охватывал город Ленина и девятьсот дней полыхал огнем, грохотал орудийной канонадой, сейчас создается пояс славы — суровый и гордый памятник защитникам невской твердыни. Березовые аллеи и железобетонные надолбы, танки, поднятые на пьедестал, и священные рощи, величественные обелиски и стелы с высеченными на них словами душевной признательности тем, о чью грудь обломились штыки, нацеленные в сердце великого города, вырастают сейчас на рубежах, где четверть века назад героически оборонялись ленинградцы. Воплощенная в металле и камне, эта признательность потомков звучит как клятва быть верными делу отцов, учиться у них мужеству и любви к Родине.
Но нет памятника более прочного и величественного, чем тот, который воздвиг в честь бессмертного своего подвига народ в своем сердце!
Со старым речным капитаном Николаем Васильевичем Сергеевым я в послевоенные годы не раз ходил на теплоходе по Неве и Ладоге. На палубе гремела радиола и было тесно от молодежи, жаждущей облазить угрюмые гранитные утесы Валаама, побродить по лесным дорогам, заваленными мокрыми листьями, увидеть деревянное кружево Кижей. Но до этих красот еще долгие часы пути, и ребята выходили на круг, сотрясая палубу частой дробью каблуков.
В неспешных рассказах капитана оживает тревожная история невских берегов. Чуть ли не целое столетие дед, отец и братья капитана плавали здесь лоцманами. Мальчишкой породнился с водой и сам Николай Васильевич: служил матросом на буксирном пароходишке. В годы революции участвовал в национализации ладожского флота. На «коробках из-под сардин» — утлых суденышках, наскоро переоборудованных в плавучие батареи и вооруженных допотопными пушками, ходил к острову Мэг на Онеге — сбивать десанты интервентов.
— Чего только не видывала наша Ладога,— говорит Николай Васильевич.— Посмотришь — вода да вода кругом, маяки кое-где, а задумаешься — и вспомнишь такое, что другому и во сне не приснится. Воч там «Дорога жизни» проходила. В пургу и мороз, а то и по радиатор в воде под огнем с берега шли по ней машины. Каждая тонна хлеба спасала от голодной смерти пять тысяч ленинградцев. Жизнь везли в город ладожские шоферы! A потом, когда весна сломала лед, настал наш черед. Довелось мне тогда вести первый в истории Ладоги железнодорожный паром. Едва успели выйти на траверз маяка, как налетели самолеты. Ничего, обошлось. Только фуражку я потерял. Сбило взрывной волной...
A на Неве было у капитана одно заветное место, на свидание с которым он выходил всегда, даже в часы, свободные от вахты. Поднявшись на мостик, Николай Васильевич пристально всматривался в крутой левый берег и говорил, словно извиняясь:
— Опасные тут места. Скоро Невские пороги. Вот уже Дубровка. Глаз да глаз нужен...
И когда над береговыми кустами вырастал строгий гранитный обелиск, снимал Николай Васильевич с седой головы фуражку с золотым капитанским «крабом» и молчал до тех пор, пока памятник не исчезнет из виду. Потом замечал скупо:
— Посмотри, как вымахала нынче травушка на левом берегу. Из русских сердец проросла она...
Если сойти в этом месте на берег, то у подножия обелиска, окруженного тонкоствольными молодыми деревцами, всегда увидишь свежий букетик неброских полевых цветов, а на граните — лаконичную надпись: «Здесь воины Ленинградского фронта и моряки Краснознаменного Балтийского флота вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками за левобережный плацдарм («Невский пятачок»). 1941—1943».
— У каждой реки свой цвет и свой голос,— заметил как-то капитан Сергеев.
Невские волны около Дубровки напоминают по-цвету хорошо отполированную сталь, а мне почему-то кажется, что они отсвечивают красным, и в тихом их шелесте слышатся боевые клики, лязг оружия и стоны раненых.
За долгие века истории русский порубежный муж, бросив соху и исполнившись духом ратным, не раз выходил на этот берег, чтобы защитить родную землю, по выражению древнего летописца, «от супротивных супостат иноплеменных немец». Некогда в этих местах храбро бился со шведами, нежданно пришедшими воевать дедовские русские погосты, князь новгородский Александр Ярославич, которому дал народ славное прозвание Невского.
В битве той отрок княжеский Савва, поплевав на ладони, с одним топоришком пробился сквозь вражеские толпы к шатру, где восседал могущественный светский ярл Биргер из рода Фолькунгов, похвалявшийся полонить новгородскую землю. Под ударами Саввина топора обломился столп, поддерживавший златоверхий шатер, и рухнул он, и в страхе бросился Биргер к Неве. Ратник Гаврило Олексич на коне помчался за ним, влетел по сходням на корабль, вместе с конем был низвергнут в воду, но выбрался из пучины невредим и снова бросился в битву...
Спустя почти полтысячелетия к этому же берегу, выжигая селения по Тосне-реке, пробивался в пушечном громе петровский окольничий Петр Матвеевич Апраксин и Алексашка Меншиков, царев любимец, в красной рубахе распояской, хвастая отвагой, лез здесь со шпажонкой в руке на неприступные стены шведского Нотебурга — древнего русского Орешка, чтобы добыть себе чины и славу...
На месте, где в годы Великой Отечественной войны возник левобережный плацдарм, в старые времена находилось знаменитое урочище Красные Сосны — поляна, поросшая вековыми деревьями. Петр Первый, совершая свои шведские походы, не раз останавливался здесь на отдых. Здесь он получил известие о том, что комендант Нотебурга гордый Шлиппенбах «по жестоком и чрезвычайном, трудном и кровавом приступе» русских со всем своим гарнизоном сдался на аккорд. Здесь же Петр провел и последнюю ночь перед победным штурмом Ниеншанца — земляного шведского городка, замыкавшего путь по Неве в месте впадения в нее реки Охты.
Вошла Дубровка и в летопись первых советских пятилеток. Помните песню:
Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река...
Написал ее поэт Борис Корнилов для кинофильма, рассказывавшего о том, как в канун 15-й годовщины Великого Октября на турбинном предприятии (Ленинградском Металлическом заводе) был принят первый встречный план. Молодежная бригада Петра Старосельцева, послужившего прототипом для одного из главных героев «Встречного», собрала тогда первую крупную паровую турбину советского производства. Да еще как собрала! Даже у видавших виды английских специалистов, приехавших учить молодых ленинградских турбостроителей, дыхание захватило от таких темпов. За свой трудовой подвиг Петр Старосельцев получил тогда орден Ленина. Турбину проводили в Дубровку, где строилась Восьмая ГЭС, а вокруг нее разрастался поселок Невдубстрой.
Как малого ребенка, кутали сборщики машину в брезент, чтобы она не простудилась ненароком на лютом морозе — крыши над зданием электростанции еще не было. И турбина задышала, стала давать Ленинграду свет и тепло. Работала она и тогда, когда рядом загремели очереди фашистских автоматов. Потом держаться стало уже невозможно. Энергетики погасили топки и начали по частям разбирать еще теплое, еще трепетавшее от радости труда тело турбины...
Подвигам, которые суждено было совершить в здешних местах дальним потомкам отважных русичей, подивились бы и былинные богатыри. Да и крови тут было пролито в сорок первом куда больше, чем за все прежние сечи.
— Только одна земля знает, что тут на ней было,— говорит Николай Васильевич, провожая глазами обелиск и не спеша надеть фуражку.
Земля помнит. Земля не забыла. Заваленное обломками вражеского оружия огромное поле боя под Ленинградом до сих пор хранит немые свидетельства великого мужества и великой отваги.
В старом окопе, на размытом дождями, расстрелянном бруствере которого пламенеет земляника, можно найти добротной крупповской стали шлем, расколотый страшным ударом русской саперной лопаты. На бывшей окраине бывшего Тортолова выглянет из бурьяна, разбередит тебе душу покрытый голубенькой эмалью семиконечный православный крест. На приколоченном к нему рваном куске самолетного дюраля гвоздем выбито: «1941. Погибла от немецкого фашизма семья солдата Ивана Дергачева: 1. Жена. 2. Трое детей». Каким же жгучим огнем горел в солдатском сердце этот счет: жена, трое детей!..
На семьдесят втором километре от Ленинграда, между станциями Назия и Поляны, возвращаясь из лесу с полным лукошком волнушек, ты заметишь на срезанной снарядом вершине березы старую солдатскую каску. А под березой — ровные ряды братских могил.
И долго потом болит у тебя сердце, вспоминается пережитое и тревожат неотвязные думы: удалось ли солдату Ивану Дергачеву полной мерой взыскать с врага по своему страшному счету? Ждут ли еще матери и жены своих воинов, которые не пощадили жизни в битве за Родину, легли в сырую землю у станции Назия?
Случается порой и так, что эта неласковая, жестокая земля, политая вдовьими слезами и солдатским потом, словно желая по-матерински отблагодарить тех, кто заслонил ее своим телом в лихую военную годину, возвращает людям горячее биение сердец своих защитников, говорит с ними их грубоватым, хриплым голосом.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
