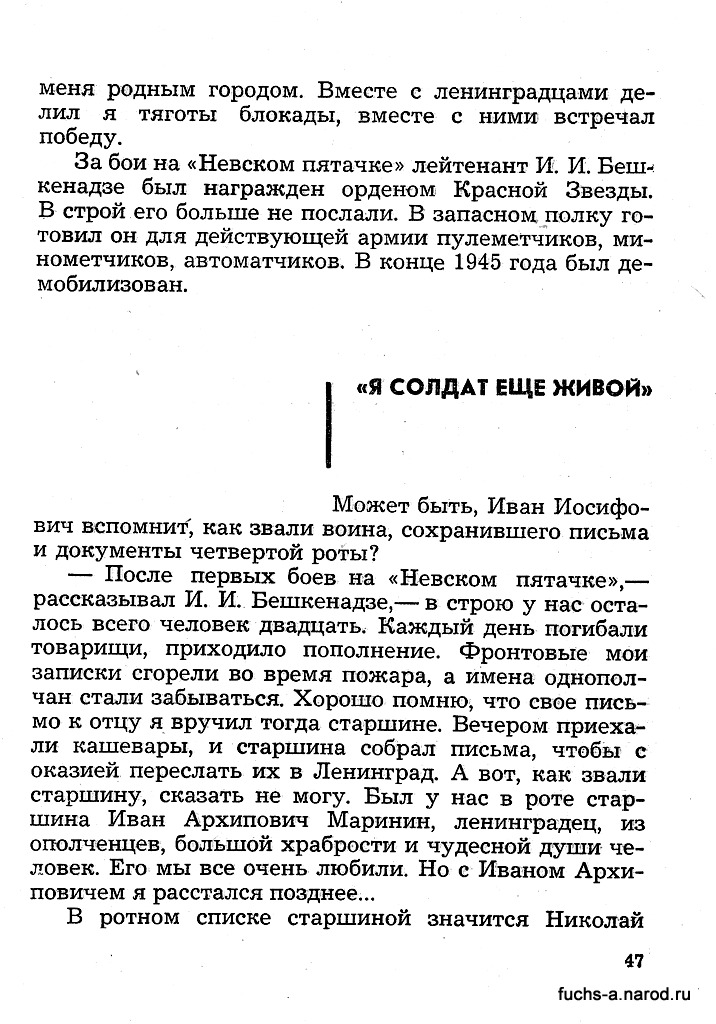Аверин В. «Дубр» был за нами.— М., Политиздат, 1971. — С. 47—62
«Я СОЛДАТ ЕЩЕ ЖИВОЙ»
Может быть, Иван Иосифович вспомнит, как звали воина, сохранившего письма и документы четвертой роты?
— После первых боев на «Невском пятачке»,— рассказывал И. И. Бешкенадзе,— в строю у нас осталось всего человек двадцать. Каждый день погибали товарищи, приходило пополнение. Фронтовые мои записки сгорели во время пожара, а имена однополчан стали забываться. Хорошо помню, что свое письмо к отцу я вручил тогда старшине. Вечером приехали кашевары, и старшина собрал письма, чтобы с оказией переслать их в Ленинград. А вот, как звали старшину, сказать не могу. Был у нас в роте старшина Иван Архипович Маринин, ленинградец, из ополченцев, большой храбрости и чудесной души человек. Его мы все очень любили. Но с Иваном Архиповичем я расстался позднее...
В ротном списке старшиной значится Николай Нестерович Жеребцов, 1916 года рождения, коммунист, призван в армию Талдомским райвоенкоматом Московской области.
— Что ж, был у нас и такой старшина,— вспоминал Иван Иосифович.— Только ведь в списке более двухсот фамилий, а уцелело нас всего ничего. Старшинам же доставалось больше всех. Мы хоть в землю могли зарыться, а им приходилось почти каждую ночь переправляться на тот берег. Ад тогда был на Неве, и старшины часто менялись...
Адрес Н. Н. Жеребцова в ротном списке почти стерся. Прошло время, прежде чем удалось установить место жительства старшины, На его родину полетели письма в райвоенкомат и сельсовет с просьбой выяснить, не получали ли родственники Н. Н. Жеребцова похоронку или извещение о том, что он пропал без вести.
Три ответа пришли почти одновременно. Служащий Дмитровского объединенного горвоенкомата подполковник Мохов и председатель Юдинского сельсовета Федоров сообщали, что Николай Нестерович жив. А третье письмо, где буквы в строках круто падали влево, было написано самим старшиной, левой рукою:
«Старшиной в роте я был до октября 1941 года. Сначала мы были в обороне, а потом переправились через Неву и пошли в наступление. По приказу командования я принял взвод и воевал на левом берегу Невы, где мы пытались расширить плацдарм в сторону деревни Арбузово. В конце ноября во время атаки я был ранен в правую руку и лежал в госпитале в Ленинграде. Там мне руку ампутировали. До самого плеча. Я солдат еще живой, но нет у меня правой руки — инвалид Отечественной войны II группы...»
| Там, на левом берегу Невы, грохочет бой. Осень 1941 года | |
 |
|
| Старшина Н. Н. Жеребцов великолепно знал военный быт |
Заместитель политрука роты А. Н. Меньшиков |
Старшина четвертой роты до войны прослужил в армии четыре года и великолепно изучил военный быт, его законы и обычаи. Он твердо знал, что боец в любой обстановке должен быть накормлен, одет, обеспечен махоркой и патронами. Слова «нет» для солдата не существует. Что положено — отдай! А если отдал — требуй с бойца полной мерой и слов «не могу», «не под силу» тоже не принимай в расчет.
Под Дубровкой эти простые и мудрые истины были основательно поколеблены. Старшина не мог простить себе, что его солдаты сутками не видели горячей пищи, замерзали в нетопленых блиндажах. Распространяться о том, что гребцы во время переправы вышли из строя и старшине самому пришлось вести лодку к берегу, что из проклеванного осколками армейского заплечного термоса вытек суп, что вместо дров надо было захватить ящики с боеприпасами, Николай Нестерович просто не мог. Слова «нет» солдат не признает. А каково приходится там, на Неве, вся рота хорошо знала сама, так как не раз выволакивала из полузатопленной лодки мешки с сухарями, забрызганные водой и кровью.
Активный участник боев на «Невском пятачке» генерал-лейтенант С. Н. Борщев так рассказывает о работе тыловых служб, которые обеспечивали плацдарм всем необходимым:
— Пищу на «пятачок» доставляли с правого берега в термосах, при этом многие бойцы хозвзводов и старшины погибали. Бывало и так, что добирались они к нам раненые, с простреленными термосами. Нередко люди на «пятачке» сутками оставались без пищи. А случалось, боец только получит в котелке долгожданный блокадный паек и едва успеет поднести ложку ко рту, как противник открывает огонь.
И вот уже в стороне валяется котелок — его хозяину он больше не нужен...
С годами я все больше поражаюсь, как можно было доставлять боеприпасы, пищу, газеты, журналы, письма на «Невский пятачок» и самим выкраивать время, чтобы прочитать газету, написать ответ на весточку из дома. Тогда этому никто не удивлялся. И на «Невском пятачке», самом опаленном из всех маленьких прибрежных плацдармов минувшей войны, складывался свой будничный быт.
Этот быт создавали такие герои, которые, как и старшина Жеребцов, не думали ни о наградах, ни о славе. И все же старшина облегченно вздохнул, когда его вместо выбывшего из строя командира назначили взводным. Теперь все снова стало ясным: справа — сосед, слева — сосед, впереди — противник. Знай свое дело — воюй. Только недолго продолжалась эта ясность — до той атаки, в которой потерял сверхсрочник Жеребцов правую руку.
«Себя я чувствую неважно, часто прихварываю,— писал Николай Нестерович,— Сами понимаете, сколько крови привелось потерять под Дубровкой. Жена моя Ефросинья Никитична работает в совхозе вместе с сыном Львом, дочь Валя заведует сельской библиотекой, а младший сынишка Саша еще учится в школе.
Старшиной в роте после меня был старший сержант Сергей, а вот фамилии его я не помню. Правда, вспоминается, как во сне,— то ли Кузьмин, то ли Кузнецов...»
Нет в списке четвертой роты ни Сергея Кузьмина, ни Сергея Кузнецова. Но вот один документ, который сохранился в старой полевой сумке. Не поможет ли он раскрыть тайну имени мертвого письмоносца?
«Я, музыкант сверхсрочной службы, красноармеец второго отделения второго взвода четвертой стрелковой роты П. В. Громов, доверяю старшине роты тов. Никифорову получить в финчасти причитающуюся мне зарплату (разницу) в сумме 58 рублей 75 копеек. Доверенность заверяю: политрук роты Г. Занкович».
Никифорова в ротном списке тоже нет. Правда, в списке личного состава одного из взводов значится некто Никифоров, но ни имя его, ни возраст, ни место рождения не указаны. Сообщается только, что прослужил он в Красной Армии три года. Зато есть все данные, касающиеся красноармейца сверхсрочной службы Павла Васильевича Громова. Сохранилось и его письмо, адресованное в Ленинград на Сытнинскую улицу жене Александре Федоровне.
ПО СТАРЫМ АДРЕСАМ
На каждом доме в старых ленинградских кварталах стоило бы установить мемориальную доску. Исхлестаны непогодой, источены временем, опалены огнем стены каменных ветеранов, хранящие на себе следы боевых ранений. И хоть не угнаться теперь этим домам за поднявшимися на былых окраинах нарядными зданиями с широкими окнами и цветниками на балконах, ничуть не стыдятся они ни крутых, исшарканных тысячами ног своих лестниц, ни тесных дворов, загроможденных дровяными поленницами. Как старые обстрелянные солдаты, крепко еще стоят они в строю и верно несут свою службу, с добродушной усмешкой посматривая на молодежь; кичитесь, мол, щеголяйте своей юностью и нарядами, а мы видывали такие виды, какие вам и не приснятся.
А видывали они такое, что перед каждым домом хочется скинуть шапку. И слыхивали они многое: вой сирен и визг бомб, скупые слова прощания и ликующие голоса победителей.
В тесноватые эти дворы душным и скорбным летом сорок первого, узнав о вражеском нашествии, выходили мужчины в рабочей одежде и в руки, только что резавшие металл, собиравшие тончайшие приборы, обнимавшие жен и ласкавшие детей, брали винтовки, чтобы защитить родную землю, по которой шла смерть. В одном из таких домов на улице Каляева старый ленинградский рабочий Николай Никандрович Бессонов написал тогда бумагу, адресованную в штаб Ленинградского военного округа:
«Мною было подано заявление во время нападения на нашу страну о создании танкового экипажа и зачислении на фронт меня и шести моих сыновей и двух дочерей... Прошу возобновить мое заявление о посылке нашего танкового экипажа на защиту родины от нападения зарвавшегося Гитлера, фашистской его шайки».
Это дома-богатыри, дома-герои. Они давали надежный приют защитникам города и были неприступной крепостью для врага. Узкими щелями пулеметных амбразур смотрели они в сторону противника и широко открывали двери перед красными воинами, приходившими с фронта. В эти каменные громады целили бомбы с фашистских «юнкерсов» и снаряды горластой «берты», установленной гитлеровцами под городом. А люди в них при трепетном свете допотопной буржуйки делили лютой блокадной зимой микроскопические кусочки хлеба, незаметно стараясь подсунуть детям ломтик потолще, сочиняли стихи, писали диссертации и от души смеялись над незадачливым гитлеровским «комендантом города Ленинграда» генерал-майором Кнутом, который причинил немалый изъян фашистской казне, загодя напечатав так и не пригодившиеся «аусвайсы» для проезда автомашин вермахта в город, который фашисты уже считали своим.
В одном из таких домов на Васильевском острове ленинградская девочка Таня Савичева вывела тоненькой слабой ручонкой строки, заставившие весь мир содрогнуться от боли и гнева: «Умерли все. Осталась я одна». Из этих зданий на санках вывозили непреклонных питерских стариков, у которых уже не было сил дойти до завода. И старики, посылая проклятья окаянному Гитлеру, привязывали себя, чтобы не свалиться, веревкой к станку и вытачивали корпуса для снарядов.
Многое повидали и лестничные темноватые площадки в старых домах. На них при первых шагах почтальона с надеждой и страхом выбегали простоволосые усталые женщины и, пряча от соседей покрасневшие глаза, возвращались в пустые, промерзшие насквозь квартиры, услышав виноватые слова:
— Вам пока ничего нет.
А письма были. Их писали солдаты на прикладах винтовок или на патронных ящиках, бережно прикрывая листок бумаги от снега и песка, сыпавшегося с окопного бруствера. Писали в сырых, пахнущих прелью блиндажах, примостившись у хилого, исходящего ядовитой черной копотью пламени, которым горит телефонный кабель. Их несли в вещевых мешках и кирзовых полевых сумках ротные связные, пробираясь от воронки к воронке в штаб полка. Бывало, что солдат с драгоценной этой ношей встречал на своем пути пулю-дуру, и тогда почтальон, поднявшись по крутой и темноватой ленинградской лестнице, снова говорил угрюмо:
— Вам пока ничего нет...
...Не так-то это просто — разыскать людей, которым были адресованы письма, датированные ноябрем 1941 года! После голодной и холодной зимы сорок второго, после зверских бомбежек и артиллерийских обстрелов лета 1943 года, после кровопролитных боев сорок четвертого...
А может быть, это жестоко — передать родным последний привет от человека, утрата которого сто раз оплакана? Легко ли это — снова внести в тихую и теплую квартиру леденящее дыхание проклятой войны, которая причинила людям столько горя?..
Но письма из сорок первого жгут руки. Каждое из них кричит: пусть люди помнят! Пусть не забывают, какой ценой было заплачено за мир. Больно сердцу и горько на душе — помни. Горят старые, зарубцевавшиеся раны — помни. И погибший солдат, четверть века пролежавший в разрушенном блиндаже под Дубровкой, тоже кричит: помни! На войне не было неизвестных. У каждого было имя, была мать. И верно, до сих пор еще выходит она на околицу, высматривая из-под ладони: не идет ли ее служивый...
И вот начинается поход по старым адресам, выведенным на конвертах солдатским карандашным огрызком в сорок первом.
— Нет, Не проживает.
— Не знаем.
— Кажется, жил, но выбыл.
Приходится наведываться в домовые конторы и справочные бюро, звонить в адресный стол и снова стучаться в двери, из которых в годы войны с надеждой и страхом выбегали солдатские жены и матери, заслышав шаги почтальона. И письма находят адресатов. Письма от живых к живым. И от мертвых к живым.
И смахивают слезу вдовы, получившие наконец последний привет от своего не вернувшегося с войны кормильца и добытчика, и дивятся силе духа и мужеству отцов сыновья, переросшие своих батек и знающие их только по портретам, и ветеран, склонив седую голову над листком, который он сам заполнил давным-давно в окопе, долго молчит, глотая застрявший в горле непрошеный ком.
Первый визит — в семью сверхсрочника Громова. О чем же там расскажут, что поведают?
ТРУБАЧ ВЫХОДИТ НА ПЕРЕКЛИЧКУ
Снаряд рванул на самом бруствере, взвизгнули осколки. Громов выплюнул попавший в рот песок и, когда развеялась едкая гарь разрыва, с тоской взглянул на небо, серое, как солдатская шинель. В сторону Ленинграда, натужно воя, шли тяжело груженные бомбовозы с черными крестами на крыльях. А там — мать, жена, малолетки.
Хоть кричи, хоть рви волосы — ничем уж им не поможешь...
Воевать везде не мед. Но на пороге родного дома — нет горше муки. Так и кажется, каждый снаряд летит в твою семью, каждая бомба в нее метит. А тут еще вышла незадача: на переправе попал в ледяную воду, да на берегу просквозило до костей невским злым ветром — отнялись ноги, еще не зажившие после ранений. Не встанешь на них. Через несколько дней праздник. Чем порадовать ребятишек? Какой гостинец послать? В финчасти остались какие-то деньги от аттестата сверхсрочника, который Павел Васильевич выслал жене. К чему они ему, солдату, тут на «пятачке»? Военторги от него держатся в сторонке... А дома деньжата пригодятся. Старшина собирается на тот берег, надо ему доверенность дать да заодно и жене письмецо черкануть...
Громов вжал спину в стенку окопа, положил на винтовочный приклад листок бумаги. Помусолив карандаш, вывел:
«Здравствуйте, дорогие жена Саша и сынки Юраша и маленький Витюша, а также мама, Митя, Николай, Дуся, Ира, Нина, Лена, Фрося, Зоя, Лида, Вова, Гена и Пал Палыч!
Шлю вам свой боевой красноармейский привет с линии фронта. Дорогие, родные, Сашуля и сынки, я пока еще болею, но лучше бы не болеть, так как болеть здесь очень некстати. Много работы. Но ты знаешь меня: я что могу, то и делаю. Перекладывал печку и так, по мелочам.
Саша, напиши мне адрес Саши и Василия... Приходили ли письма на работу? На Малова письма не высылай: он ранен и находится в госпитале. Много мне не пиши. Пиши мне о себе, а все другие известия для меня лишние. Вот как у тебя насчет дров, напиши обязательно. Если дров нет, сходи к комиссару, он поможет.
Теперь вот насчет сыновей, Сашенька. Я знаю, что ты их бережешь, но смотри и себя тоже не своди. Что они живы и здоровы, это очень хорошо.
Я не знаю, за какое число получила ты письмо от меня: одно я посылал 10 октября, а другое 22 октября. Я так беспокоился, что долго нет ответа. Наши получают, а я нет. Я уже написал в академию, чтобы сходили к тебе и узнали, в чем дело, почему нет ответа. Придет к тебе с этим Володька. Но вот 1 ноября получил и я письмо...
Сашенька, теплого мне пока ничего не надо. На сегодня я имею новые перчатки, выстирал ватные брюки и ношу две теплые рубахи, а свои перчатки пока лежат. Получил теплый подшлемник. Скоро дадут фуфайки. Как видишь, дела пока идут неплохо. Питание согласно данной обстановке.
Вот только со светом у нас в землянке неважно. Поэтому, Сашуля, одна лишь к тебе просьба: если можно, то попроси Николая или Лешу; чтобы упаковали как следует один литр керосину. Вот, Сашуля, и все. Если с керосином туго, тогда не нужно. Табак дают: «Ракету», «Звездочку», «Норд». На этом кончаю. Целую вас всех. Ваш папа Павел.
У нас есть в землянке своя баня, а я был банщиком... Привет всем знакомым и родным. Павел.
2 ноября 1941 года».
Писал это письмо солдат и по-хозяйски прикидывал, что нужно еще сделать, чтобы обжить неуютную дубровскую землю, Баня есть, печку он сложил. Вот со светом в землянке действительно из рук вон... Палят почем зря телефонный кабель, и от копоти у ребят под носами черные усищи образуются. Снегом и то не ототрешь. Может, жена и вправду поможет.
Таким домовитым хозяином, не умевшим давать отдых своим рукам, был Павел Васильевич и в семье. Перед войной жизнь его порадовала: устроился музыкантом в духовой оркестр Военно-медицинской академии, получил комнату, дети родились и оба мальчишки. И тут, как снег на голову, Гитлер с его бандюгами.
В тревожные дни, когда враг ударил своим прикладом в ворота Ленинграда, ушел Павел Васильевич Громов на фронт добровольцем. Думал, что жена будет отговаривать, но Александра Федоровна сказала:
— Двое сыновей у тебя растут. Никто их не защитит, если сам не сменишь свою трубу на винтовку. Иди, отец!
А потом он, раненный в одном из летних боев, заглянул домой. Ввалился в комнату страшный, заросший бородой, с четырьмя гранатами у пояса и десятизарядным полуавтоматом за спиной. Жена наскоро перевязала мужу раны и сама отвела его к военному коменданту. Оттуда угодил Павел Васильевич в госпиталь...
Не дошел твой праздничный гостинец, солдат! Не донес до невской переправы ротный старшина и письмо с боевым твоим приветом. А как ждали его в семье...
В самый канун Октябрьского праздника вражеская бомба выбила все окна в доме на Сытнинской. Александре Федоровне крепко недужилось, но она встала с постели, наскоро забила фанерой оконные проемы, завесила их одеялами. Приготовила праздничное угощение: пяток соленых помидоров, кусок хлеба и стакан соевого молока ребятам. Темно и холодно было в комнате. Ветер нес сквозь щели в окне морозную пыль...
На много же лет опоздал, солдат, твой праздничный поклон родным. Давно нет в живых твоей матери. До самой последней минуты делилась она с внучатами горьким блокадным хлебушком и умерла голодной смертью. Нет и закадычного дружка твоего Пал Палыча. Никто уже не сообщит тебе и адрес брата твоего Александра, балтийского моряка. Сложил он голову на войне. Погибла на посту под вражеской бомбой и веселая девчонка Дуся, боец отряда местной самообороны. Это она, когда Александра Федоровна потеряла блокадные карточки, отдала твоим детям свой солдатский хлеб за целую неделю.
Давно вырос и женился сын твой Юраша, работает радиотехником. И не помнит он уже, как весной 1942 года привела его мать на Серафимовское кладбище, где буйно зеленела трава. Во дворе на Сытнинской трава давно была съедена до последнего стебелька. А здесь, увидев такое сказочное богатство, Юраша ахнул от восторга и восхищения. Это кладбищенская трава, солдат, да верное сердце жены твоей Саши и помогли детям твоим выжить.
Десятки тысяч жителей города были благодарны ленинградским ученым, которые рекомендовали для употребления в пищу более сотни дикорастущих растений, таких, как лебеда, крапива, борщовник, водяная лилия, подорожник, хмель, одуванчик, лопух, ромашка. 19 июля 1942 года Ленинградские обком и горком партии приняли специальное постановление о заготовке и продаже населению дикорастущих трав. «При Ботаническом институте, в клубах, домах культуры, больницах, госпиталях и на предприятиях были организованы выставки пищевых растений, читались лекции, давались консультации по приготовлению различных блюд из трав. В весенне-летний период 1942 года предприятиями пищевой промышленности Ленинграда было заготовлено 4000 тонн дикорастущих растений»,— говорится в «Очерках истории Ленинграда». В своей книге «Ленинградцы в годы блокады» А. В. Карасев пишет: «Население использовало малейшую возможность, чтобы сбором съедобных трав увеличить суточный паек. Женщины рвали их по обочинам окраинных улиц, в садах, на кладбищах».
Не помнит теперь Юрий Павлович и того, как летом сорок второго шел он, держась за юбку матери и осторожно переступая тонкими, как былинка, ножками, по Марсову полю. Бил немец из дальнобойных. И когда рядом зачернела каменная громада Инженерного замка, четырехлетний карапуз сказал серьезно, с многоопытностью бывалого воина:
— Ну, поле перешли — теперь живы будем...
...Крутая и темная лестница ведет под самую крышу дома на Сытнинской. Это не тот дом, номер которого был указан на конверте громовского письма. Тот стоял на другой стороне улицы и был разрушен бомбой еще в сорок первом. В комнате все в сборе. За столом — сам старый солдат Павел Васильевич Громов, до сих пор не расстающийся с гимнастеркой. Рядом Александра Федоровна. Строгого русского письма лицо, скромное темное платье. А вот «маленький Витюша» — широкоплечий румяный здоровяк, слесарь завода «Красногвардеец». Когда папа Павел передавал ему привет из-под Дубровки, было Витюше всего полтора годика...
Вместе мы разбираем полустертые карандашные строки, прикидываем, кому еще можно передать праздничный солдатский привет, запоздавший на десятилетия. И вместе пытаемся дать ответ тому хозяйственному, деловитому солдату, который на совесть хотел обжить ненадежную и зыбкую дубровскую землю для того, чтобы прочно стоял Ленинград. И хоть не одна беда заглянула в трудное то время в дом красноармейца, хочется нам сообщить в Дубровку:
— Делай свою тяжелую и большую ратную работу со спокойной душой, Павел Васильевич! Держимся. Не распускаем нюни. Не подведем...
— Ранен я был в том бою, в праздничные-то дни,— вспоминал Павел Васильевич.— Атаковали мы немца. Добежал я до их окопов, покропил гадов из автомата. И тут в самых ногах у меня ахнула ручная граната. Ну, а там известно что: переправа через Неву, госпитали, поезда. Потом много было всякой всячины — с фронта на фронт, из боя в бой, Довелось повоевать и в конной разведке, и в пехоте-матушке, что царицей полей величают, и в артиллерии. Ранен был еще не раз. Под самый конец войны снова попал в духовой оркестр. В День Победы играл торжественный марш на балтийском берегу в Кенигсберге. И еще раз играл его — через четыре месяца в Порт-Артуре, на берегу Тихого океана. Жена всю блокаду провела в Ленинграде, выехать с малышами не сумела. От меня-то иной раз по полгода писем не было: то в госпитале, то в новой части, то еще что...
Ну, а после войны,— закончил наш разговор Павел Васильевич,— дела у нас снова пошли на лад. Жена работала маляром, я — снова в оркестре, в медицинской академии. Ребята подросли. Недавно вот вышел на пенсию — дает себя знать Невская-то Дубровка. А вот кому я тогда письмо отдал и доверенность — не скажу. Много народу за войну перед глазами промелькнуло. Всех и не упомнишь. Разыскать бы вам политрука Занковича...
Умер Павел Громов в 1968 году.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |