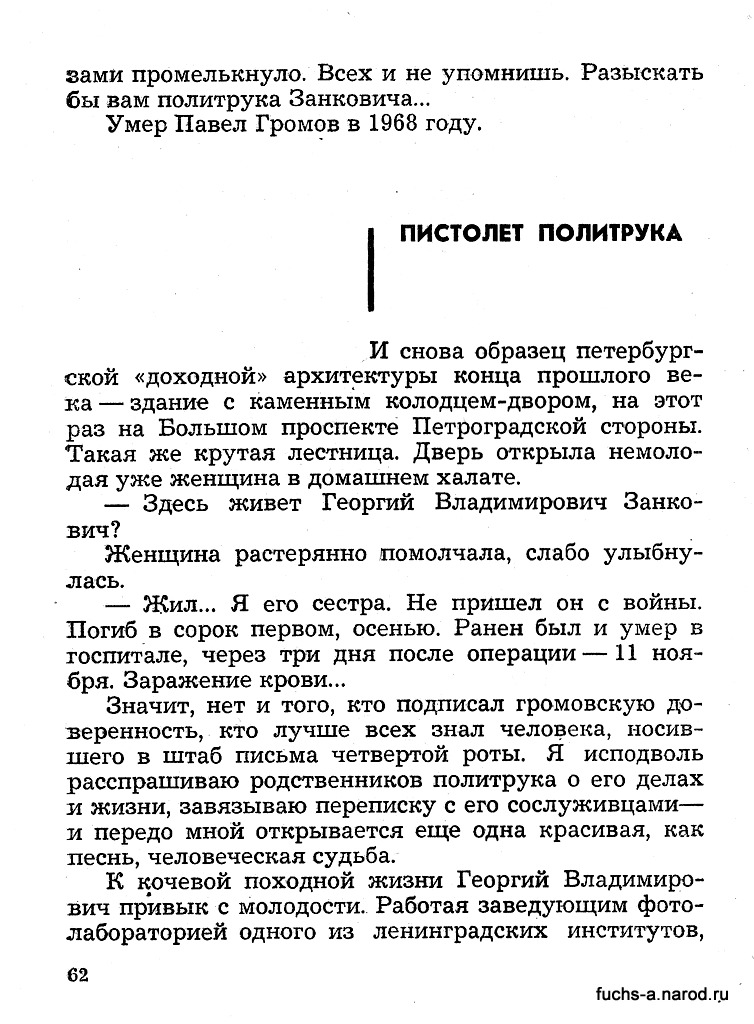Аверин В. «Дубр» был за нами.— М., Политиздат, 1971. — С. 62—71
ПИСТОЛЕТ ПОЛИТРУКА
И снова образец петербургской «доходной» архитектуры конца прошлого века — здание с каменным колодцем-двором, на этот раз на Большом проспекте Петроградской стороны. Такая же крутая лестница. Дверь открыла немолодая уже женщина в домашнем халате.
— Здесь живет Георгий Владимирович Занкович?
Женщина растерянно помолчала, слабо улыбнулась.
— Жил... Я его сестра. Не пришел он с войны. Погиб в сорок первом, осенью. Ранен был и умер в госпитале, через три дня после операции — 11 ноября. Заражение крови...
Значит, нет и того, кто подписал громовскую доверенность, кто лучше всех знал человека, носившего в штаб письма четвертой роты. Я исподволь расспрашиваю родственников политрука о его делах и жизни, завязываю переписку с его сослуживцами передо мной открывается еще одна красивая, как песнь, человеческая судьба.
К кочевой походной жизни Георгий Владимирович привык с молодости. Работая заведующим фотолабораторией одного из ленинградских институтов, он с научными экспедициями исколесил всю страну, побывал в самых глухих ее уголках. Он хорошо разбирался в людях, любил их и. всегда носил при себе ключик к их сердцам.
Был политрук смел, скор на выдумку и за острым словом в карман не лез. Сразу же после переправы через Неву рота засела в «лисьи норы», вырытые в береговом песке. Продрогшие солдаты в промокших насквозь кирзовых сапогах с нетерпением ожидали свои фронтовые сто граммов. Но когда старшина, прорвавшись на лодке через бурлящую под огнем реку, привез еду и спирт, политрук рассудил так, как никто не ожидал:
— Мы, ребята, живые. Разогреемся в бою. А в пулеметах вода мерзнет, того и гляди кожухи разорвет. Без пулеметов нам крышка. Прогревать их стрельбой — патронов маловато. Давайте сложимся да зальем в наши «максимы» спиртику. Авось всем нам теплее будет...
Перед памятной атакой 7 ноября 1941 года рота собралась в лощине. Разделили припасы. Каждому досталось по пачке папирос «Эпоха». Впереди вставала стена огня, надрывно, выматывая душу, ревели «ишаки» — немецкие шестиствольные минометы, захлебывались, дрожали от ярости пулеметы. Красноармейцы посмотрели друг на друга: не узнать никого. Лица — как котелки, снятые с костра,— покрыты грязью и копотью, шинели изрешечены осколками и прожжены. Хороши! Первыми прыснули новобранцы, а вслед за ними рассмеялся и политрук.
Так, с улыбкой на губах, с пистолетом в руке и пошел Георгий Владимирович в свою последнюю атаку. С полсотни метров двигались в полный рост, потом шквальный огонь стал прижимать роту к земле. Многие залегли, поползли вперед по-пластунски, сближаясь с противником на бросок ручной гранаты. Политрук не лег, не захотел кланяться врагу, нюхать землю, и около колючей проволоки подкосил его вражеский осколок. К Георгию Владимировичу подбежали Вано Бешкенадзе и заместитель политрука Алексей Меньщиков.
— Тяжело мне, ротный,— сказал Занкович.— Видно, отвоевался. Прикажи нести к переправе. А ты, Алексей, возьми мой пистолет. За меня останешься...
Нева кипела. Санитары, перевозившие раненых, укрылись под береговым обрывом, пережидая очередной артиллерийский налет. Лодку с политруком сорвало взрывом с причала и понесло вниз по течению к немцам.
И тогда два солдата четвертой роты, не раздумывая, бросились в ледяную воду, вернули лодку к берегу. Выручать надо было политрука. Вечером его доставили в санбат...
— Недолго я носил пистолет Занковича,— вспоминает Алексей Николаевич Меньщиков, живущий и работающий сейчас в Череповце.— Трудновато было уцелеть на «пятачке». A мне там повезло. На многих фронтах воевал я потом, но такого, как под Дубровкой, испытывать больше не приходилось: яростные были там бои. Да и воевать тяжело было. С великим трудом старшине удавалось переправить на «пятачок» мешок сухарей да еще что-нибудь. Нева была рядом — рукой подать, а водичкой можно было запастись только ночью: весь берег фашисты держали под прицелом. Отапливали землянки баночками с сухим спиртом да в плащ-палатки поплотнее кутались, чтобы согреться. Раз в нашу землянку угодил снаряд, а было там нас шестеро. Завалило всех землей. Кое-как пробил я небольшую дырку, отдышался, кричу не своим голосом: «Ребята! Живы мы, откапывайте!» Откопал нас отделенный командир сержант Воликов. Конечно, часа два ходили как угорелые, но потом все же отошли. Ранило меня в очередной атаке 20 ноября. С большими потерями добежали мы до немецких окопов, вступили в рукопашную. Фашисты пустили в ход ручные гранаты. Две «колотушки» я отбросил ногой, а третью не успел. В сознание пришел только в госпитале на Петроградской стороне в Ленинграде. Череп был разбит. Двенадцать осколков попало в грудь и плечо. До сих пор они сидят во мне, не дают забыть Дубровку. Потом узнал, что перевязала меня и вынесла из-под немецкой проволоки наш ротный санинструктор Аня Семенова. Видно, больно я был плох, коль думала она, что не жилец я на белом свете. Отлежав в госпитале день в день пять месяцев, попал я снова на фронт и в уличных боях в Харькове был опять ранен — пулей в грудь навылет. Лечился на Урале, а когда встал на ноги, дали мне отпуск домой на тридцать суток. В Свердловске наш поезд стоял с полчаса, я вышел на перрон, чтобы подышать воздухом, и вдруг слышу: «Товарищ старший сержант! Алеша! Как ты здесь оказался? Мы же похоронили тебя под Дубровкой...» Это наша Аня сидит на скамеечке с тремя девчатами в солдатских гимнастерках, и глаза у нее от удивления большие-большие... A я вот она Воевал еще и на Западном фронте, и на Волховском, и с бандами Бандеры пришлось схлестнуться, и до государственной границы дошел. Видел и голод, и холод, и смерть, а вот живу и помирать не собираюсь.
Когда я заходил в землянки на «пятачке»,— дополнил свой обстоятельный рассказ Алексей Николаевич,— бойцы меня всегда спрашивали, как отправить письма домой. Я отвечал, что ночью старшина или писарь поедут на тот берег за продуктами и патронами и возьмут письма с собой. Старшины у нас часто менялись, так что сейчас, когда прошло столько времени, трудно сказать, кто перед октябрьскими праздниками в 1941 году нес нашу ротную почту...
Что ж, в старой полевой сумке есть еще несколько писем. Может быть, их авторы тоже живы и сумеют помочь нам. Слово подносчику патронов четвертой роты Слезину, который живет на Петроградской стороне.
ОН ПОДНОСИЛ ПАТРОНЫ...
Инженер Николай Макарович Слезин вернулся с оборонительных работ в Ленинград в самом конце лета сорок первого. В городе заметно попахивало гарью пожарищ, и безмятежная мирная жизнь была уже безоговорочно перечеркнута бумажными крестами, белевшими на окнах. Толку от этих крестов было немного. Залепленные ими стекла легко вылетали из рам, когда рядом рвалась бомба.
Не удержались они и в окнах большого красивого дома на углу Кировского проспекта и улицы академика Павлова. Взрывная волна разбросала по комнате пожитки инженера, и большая лампа над столом долго качалась, не могла успокоиться. Четырехлетняя дочурка Николая Макаровича Светочка горько плакала, подбирая с пола любимых кукол, у которых разбились носы. Утешать ее было некогда: на столе лежала повестка из райкома. Она звала коммуниста Слезина вместе с другими партийцами на фронт.
Сидя в окопе на «Невском пятачке» с винтовкой № 2893 в руках, Николай Макарович все никак не мог забыть эти крупные, с горошину, девчоночьи слезы.
За последние месяцы довелось инженеру пройти через многие огни и воды. В Прибалтике, где он руководил строительством укреплений на морском побережье, стал свидетелем того героизма, с каким советские люди встретили начало военных действий. Николай Макарович на последней яхте вернулся с острова, на котором фашисты высадили десант. Инженер хорошо знал, что у моряков был всего один пулемет, но они оказывали сопротивление фашистам в течение нескольких дней. Подбросить подкрепления на остров не удалось...
На южных подступах к Ленинграду, где женщины рыли противотанковые рвы, пытаясь преградить путь вражеской броне, видел он, как «развлекаются» вражеские летчики. Потехи ради они гонялись на «мессершмиттах» за девчатами, которые были одеты в хорошо заметные с воздуха цветастые кофточки, до тех пор, пока не удавалось пришить их к земле пулеметной очередью...
Но крохотное детское горе дочки, ее слезы как-то особенно запомнились. Николай Макарович писал жене:
«Привет, милая Катюшенька!
Открытку твою получил, а обещанного письма все еще нет. Получил письмо от Володи и только что написал ему ответ. Напишу сегодня и Леше, так как Владимир сообщил мне его адрес.
Живем по-старому... Товарищи по землянке очень хорошие... »
Инженер отложил карандаш, задумался. Товарищи и впрямь хорошие. Не для красного словца сказано. Недавно занемог Николай Макарович, лежал с высокой температурой в холодной землянке, облизывая сухим языком потрескавшиеся от жара и жажды губы. Подошел почти незнакомый солдат:
— Что тошно? Маешься без воды. А ну, потерпи малость...
И через час приволок откуда-та флягу с горячим чаем. А обстрел снаружи был — воздуха не видно...
И еще был такой случай. В разрушенном доме раздобыл Слезин книжки, принес их в блиндаж. Стал читать ребятам «Евгения Онегина». Потом заспорили, правильно ли поступила Татьяна, отказавшись от счастья ради верности супружескому долгу.
— А я говорю, что дура была она! — настаивал крепко сбитый солдатик, подчеркивая каждое свое слово взмахом кулака.— Надо ей было своего старого — по боку, да к этому Евгению прибиваться.
— Нет, правильно она поступила, как подобает русской женщине,— объяснял другой.— Вот вернемся мы с войны — кто без ноги, кто без руки... Что же, женам нашим тоже нас бросать?
— А я говорю, что дура! — не унимался солдат.
И тут с нар поднялось сразу несколько человек:
— А ну-ка, помолчи. Тебе дело говорят, а ты бузу разводишь. Понимать надо...
Да славные все-таки ребята. В беде не оставят.
И Николай Макарович продолжал письмо: «Немец нас бомбит по-старому, но мы отвечаем ему еще крепче. Володя пишет о Саше Трусове. Такой человек и погиб! Очень жалко его...
Поздравляю с наступающим праздником — 24-й годовщиной Великой Октябрьской революции. Поздравь от меня всех знакомых...»
Думы о Родине, о своем долге перед ней не давали в те дни покоя Николаю Макаровичу. Ему казалось, что он сможет сделать для нее гораздо больше, чем делал до сих пор и делает сейчас. Об этом он писал второму своему брату — Владимиру, который работал врачом в одном из госпиталей.
«3 ноября 1941 года. Действующая армия.
Здравствуй, Володя Письмо твое я получил. Очень приятно получать письма, независимо от их содержания, Хорошие, конечно, лучше. Получил открытку от Катюши, в которой она пишет, что настроение у тебя и Алексея хорошее. Да оно другим и быть не может. Люди вы советские, призваны каждый на свое место и все свои силы и знания отдаете Родине. А они ей сейчас очень нужны...»
Не дошли тогда эти письма по назначению. Только сейчас прочитали их те, кому они были адресованы. А письмо Алексею Макаровичу Слезину, умершему через несколько лет после окончания войны, пришлось вернуть самому автору. Живет Николай Макарович все в том же доме, только этажом повыше. И вот что рассказал бывший красноармеец, подносивший патроны четвертой роте:
— В роду у нас все путиловцы. Дед, тетки, дядья слесарили там, прокатывали металл. А отец мой пошел по другой части: был солдатом, потом работал на табачной фабрике. И нас учил с малых лет трудиться. Я в детстве разносил газеты, потом устроился электромонтером. Работал и учился: сначала на рабфаке, затем в Политехническом институте...
Когда началось наше наступление, был я еще слаб после болезни, и политрук Занкович приказал мне ни на шаг не отходить от нашего санинструктора Ани Семеновой, помогать ей. Отважная была девушка! Стройная, сероглазая, белокурая — эдакое небесное создание, а, бывало, из любого огня человека вынесет. Песню мы о ней пели, как идет она в походной шинели по горящей Дубровке... Вот с этой дивчиной, доставив в цепь патроны, и выносил я с поля боя наших раненых. Ротный командир строго-настрого приказал нам разыскать и оказать помощь командиру взвода Голубеву, который истекал кровью. Долго мы кричали, звали; да разве можно было расслышать человеческий голос в том аду... Нашли мы Голубева в воронке от снаряда, Рука у него перебита, кровь ручьем хлещет. Тут нас накрыло разрывом, Аню царапнуло, меня крепко стукнуло по каске. Надо нести Голубева, а он парень рослый, широкоплечий — не поднять. Кричу ему на ухо: «Упирайся ногами!» — и волоком по земле. И вот тут-то не выдержали у него нервы. «Слезин,— говорит,— голубчик, не бросай!» А я ему в ответ; «Не дури! Политбойцы товарищей не бросают!» Пока донес его до Невы — все руки оборвал. И когда сел в шлюпку, понесло меня вниз по течению — не выгрести... Сам не знаю, как добрался до правого берега, сдал Голубева. Там поднесли мне стакан водки, и стал я приходить в себя... В том же медсанбате видел я и нашего политрука Занковича. Плох он был, ни кровинки в лице, а все еще шутил. Вскоре после этого боя нас отправили на переформирование. Там меня и разыскали товарищи с Балтийского Флота. Прав оказался Занкович, когда уверял, что каждый из нас найдет на войне подобающее ему место. Я работал по специальности на Ладоге, потом в Риге и в Германии. После войны был главным строителем одного из новых заводов, возглавлял цех на Балтийском заводе. Сейчас вот на пенсии... Хорошо я знал и человека, который отправлял наши письма,— закончил свою повесть Николай Макарович,— Сколько раз ел с ним кашу из одного котелка. Как сейчас вижу этого парня — смуглый, черноволосый, стройный. А имени его вспомнить не могу...
Семью инженера Слезина вывезли из Ленинграда по ладожскому льду весной сорок второго. Светочка бережно прижимала к груди кастрюлю с кашей, сваренной на дорогу... Дочь солдата давно окончила техникум, вышла замуж...
Приехав в Ленинград, бывший командир четвертой роты Иван Бешкенадзе вместе со своим сыном Георгием наведался к Слезину. Ветераны Невской Дубровки сразу узнали друг друга и крепко обнялись, За окном шумел Ленинград, сиял вечерними огнями. Гостей пригласили к накрытому столу.
— А ты помнишь, Николай Макарович, наш блиндаж? — спросил старый ротный.— Горел телефонный кабель, старшина на плащ-палатке по едокам делил сухари. Раскладывал их на кучки, заставлял одного из солдат отвернуться и, показывая на пайку, спрашивал: «Это кому?» И солдат, подумав, отвечал. «Помкомвзвода», «Ротному» или «Себе возьми»... И смешно, и горько. А как вырос за эти годы Ленинград, как похорошел! Вот за этот город, за эту жизнь и остались лежать навеки в ленинградской земле люди нашей роты...
О многом поговорили в тот вечер окопные товарищи, а вот имя человека, ушедшего к невской переправе с письмами боевых друзей, так и не вспомнили...
Теперь дорога ведет нас в Политехнический институт, куда адресовано одно из писем с плацдарма.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |