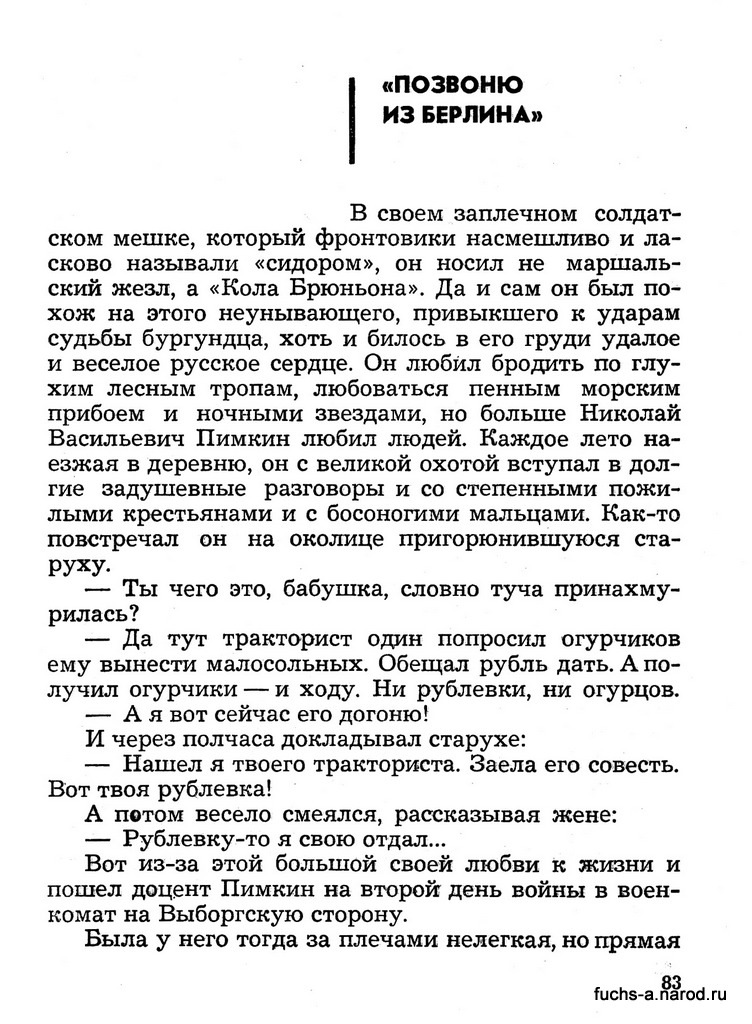Аверин В. «Дубр» был за нами.— М., Политиздат, 1971. — С. 83—100
«ПОЗВОНЮ ИЗ БЕРЛИНА»
В своем заплечном солдатском мешке, который фронтовики насмешливо и ласково называли «сидором», он носил не маршальский жезл, а «Кола Брюньона». Да и сам он был похож на этого неунывающего, привыкшего к ударам судьбы бургундца, хоть и билось в его груди удалое и веселое русское сердце. Он любил бродить по глухим лесным тропам, любоваться пенным морским прибоем и ночными звездами, но больше Николай Васильевич Пимкин любил людей, Каждое лето наезжая в деревню, он с великой охотой вступал в долгие задушевные разговоры и со степенными пожилыми крестьянами и с босоногими мальцами. Как-то повстречал он на околице пригорюнившуюся старуху.
— Ты чего это, бабушка, словно туча принахмурилась?
— Да тут тракторист один попросил огурчиков ему вынести малосольных. Обещал рубль дать. А получил огурчики — и ходу. Ни рублевки, ни огурцов.
— А я вот сейчас его догоню!
И через полчаса докладывал старухе:
— Нашел я твоего тракториста. Заела его совесть. Вот твоя рублевка!
A потом весело смеялся, рассказывая жене:
— Рублевку-то я свою отдал...
Вот из-за этой большой своей любви к жизни и пошел доцент Пимкин на второй день войны в военкомат на Выборгскую сторону.
Была у него тогда за плечами нелегкая, но прямая и честная жизнь. Отец-столяр умер в гражданскую войну от тифа. Мать билась одна с малыми детьми. Чтобы помочь ей, Николай стал работать на железной дороге. Днем орудовал кувалдой, по вечерам, падая от усталости с ног, учился. Потом — призыв в Красную Армию. Гонялся по украинским степям за бандами Махно, штурмовал крымский редут Врангеля. Отслужив, сняв гимнастерку и шинель, с новой силой навалился на учебу, жадно, с ожесточением овладевал знаниями, Коммунистов тогда в институте можно было пересчитать по пальцам, и Николаю Васильевичу в бурные годы, когда подняла голову зиновьевская оппозиция, пришлось немало потрудиться и на партийном поприще. Учился он в Технологическом. Был членом факультетского партбюро, членом парткома.
Еще в институте Николай Васильевич женился на студентке-однокурснице. В 1928 году родился сын Сережка. Новые заботы навалились на его плечи. Пришлось выехать из общежития и снять комнату. Жили на жиденькую студенческую стипендию. Помощи ждать было неоткуда. Сами помогали еще родителям... Полегче стало, когда один из крупных заводов, договорившись с Николаем Васильевичем о том, что после окончания учебы он будет работать на этом предприятии, стал платить ему заводскую стипендию.
Но на заводе этом Пимкину долго трудиться не привелось. Осенью 1930 года его отправили в командировку в Германию. Вернувшись, поступил в аспирантуру и написал книгу о производстве сверл и метчиков в германской промышленности. Диссертация его имела большое значение для производства и была особо отмечена. Николай Васильевич стал главным редактором Машиздата. Научные книги тогда писали главным образом старые заслуженные спецы, а новый главный начал усиленно привлекать в свою редакцию молодежь, накопившую немалый опыт, смело опрокидывавшую закостеневшие нормы и воззрения и прошедшую хорошую рабочую школу. Потом — снова институт, заместитель декана, восемь научных работ...
22 июня 1941 года в Сиверской, под Ленинградом, было открытие пионерского лагеря, куда Пимкины отправили Сережу. А на другой день Николай Васильевич был уже в военкомате, но там ему сказали:
— Ученых пока не берем. Занимайтесь своими делами.
Сережка в лагере сломал ногу, и после больницы его вместе с шестилетней Светланкой пришлось отвезти в деревню около Окуловки, где Пимкины часто проводили лето. Вместе со студентами Николай Васильевич отправился рыть окопы. А вернувшись в Ленинград, узнал, что фашисты заняли Новгород, и помчался за детьми. Трудно сейчас понять, как ему удалось добраться до Окуловки, когда Октябрьская магистраль была главной целью на планшетах вражеских летчиков... Вдова старого кронштадтского матроса Матрена Михайловна Антонова, у которой жили Сережка и Светлана, здорово тогда отчитала Николая Васильевича:
— Ты что, с ума, что ли, спятил? Куда ты в такую пору ребят потащишь? Под бомбы? Пусть остаются у меня. Проживем. Что с моими детьми будет, то и с твоими.
И ничего не смог возразить Николай Васильевич старой Матрене. В ноги поклонился ей и заспешил домой. Один. Без ребят. Сережка, у которого уже сняли гипс, проводил его до станции. На прощание отец сказал:
— Ну вот что, Сергей. Ты теперь старшой. Появятся немцы — уходи в лес, к партизанам. А за Светку не тревожься, Маленькая она, ее не тронут...
В Ленинград Николай Васильевич добирался уже далеким кружным путем, так как прямая дорога на Москву была перерезана. В городе шла партийная мобилизация. На фронт ушел и Николай Васильевич. Каждый день его жена Любовь Гилевна ходила под бомбежкой к мужу в казармы на Лермонтовский проспект. Видеть его доводилось только издали. В сером ватнике, с котелком на белом брезентовом ремне, с винтовкой на плече, Николай Васильевич молодецки печатал шаг...
30 сентября, придя к мужу, Любовь Гилевна застала казарму пустой. Уже хотела уйти, когда из ворот показалась рота, Любовь Гилевна сразу увидела мужа и пошла рядом с ним. Николай Васильевич попросил разрешения выйти из строя, обнял жену, сунул ей в руку хронометр, который привез из Германии:
— Отдай Сережке, когда подрастет...
Больше она мужа не видела.
Через несколько дней бойкий мальчишка принес ей записку. Николай Васильевич сообщал:
«Мы на фронте. Посылаю тебе с этим голоногим Меркурием записку. Возможно, что Меркурий в связи с тревогой не сумеет доставить тебе ее вовремя...
Днем мы спали. Ночью было холодно, занимались своими позициями. Работа приятная, когда прохладно. Построили себе комфортабельное жилье е гостиной и спальней. Последние десять дней я страдал бессонницей, а вчера спал так долго и крепко, что see бока себе наломал.
Воздух по-осеннему чист, луна освещает мио одинокую воинственную фигуру, стоящую у пулемета. Но нельзя сказать: тиха ленинградская ночь... Вчера ночью и днем дали немцу хорошую трепку, отогнали его километров на пятнадцать. Все мы живы и здоровы. У нас хорошие ребята в отделении, многие уже побывали в деле. Младшие и средние командиры — опытные кадровые бойцы, хорошие люди. Со всеми я в дружбе. Детям я ничего не писал и не знаю, стоит ли им сообщать о моей новой исторической роли».
Из документов четвертой стрелковой роты видно, что солдатом Николай Васильевич Пимкин был добрым: его сразу назначили наводчиком станкового пулемета и одним из первых представили к ефрейторскому званию. Неукротимым пимкинским духом веет с пожелтевших блокнотных листков, на которых пулеметчик писал письма жене. Их десять, этих писем. И нет сейчас в семье солдата-доцента сокровища более драгоценного, чем эти старые странички.
«11.Х.1941. Мы перекочевали с одного места на другое и сейчас расположились в довольно поэтическом месте, где есть все необходимое для лирических переживаний: луна, река, сосновый лес. Есть и музыка, но примитивная: ничего, кроме грохота барабана, воя флейт и трескотни, она не содержит. К сожалению, мы не очень активно участвуем в этом оркестре. Нас затирает могучий конкурент — артиллерия.
Жизнь у нас спартанская. Привычное жилье не уважаем. Часто копаем землю, и занятие это оставляет на ладонях заметные следы. Фигуры у нас не очень колоритные, но для немцев опасные. С нашими данными приятелем красавицы не станешь, но врага остановить можно. А для нас сейчас самое главное — разбить врага.
Особенных успехов у нас нет, но зато нет и неудач».
«12.Х. 1941. Утро в сосновом лесу. Солнечно. Падают редкие снежинки — предвестники близкой зимы зимы в огне и стуже. Сегодня воскресенье, а немцы говорят, по воскресеньям отдыхают. Но мы им отдыхать не даем. Настроение? Оно неотделимо от настроения всего народа: боевое, но не радостное. Сейчас тихо-тихо, шумят лишь вершины сосен. Но вот раздается вой — и вот разрыв. И еще, еще... А мы варим картошку. Она хороша — горячая, обжигающая. Нет только духовной пищи...»
«13.Х. 1941. Все хочу написать в институт, но никак не соберусь. Пишу тебе. Все время сдуваю песок с бумаги, а он, подлый, лезет всюду. К нему прилипает снег. Я надеюсь превратиться в настоящего вояку и вернуться к тебе целехоньким — после нашей победы. Но это будет еще не скоро».
21.Х. 1941. Читаю «Крестоносцев» Сенкевича. Немецкие рыцари, которых он изображает, жили несколько столетий назад, но они так же отвратительны, как и их нынешние потомки. Пишу письма для товарищей. Есть у нас в отделении такие, которые нуждаются в писарях. Я очень доволен, что вместе с ними защищаю Ленинград»
«24.Х. 1941. Как это тебе нравится: письмо написано чернилами. Случайно попался пузырек.
В нашем взводе пять политехников. У нас, Любаша, обострение. Молодцы все чаще появляются перед очами всевышнего, все чаще уезжают в тыл те, кто получил тот или иной изъян. Я самостоятельно заведую пулеметом, потому что мой первый номер уехал учиться на сержанта. Вчера заставил замолчать немецкого пулеметчика, погасил ракетчиков. А сегодня две неприятности сразу; в окопах нас здорово бомбило, засыпало всех землей, а во-вторых, осколок попал мне в ногу. Остался синяк. Везет парню! Наверно, ты за меня молишься.
Времени для настроений нет, Непрерывно наблюдаем за противником, ведем огонь, потом — усталость, сон и ожидание писем. Письма не имеют отношения к боевым операциям, но сказываются на настроении бойцов.
Ты ждешь меня. Я приеду, хотя и не скоро, но непременно приеду, если буду жив. А жив-то я буду...
Погода паршивая: и слякотно, и мокро. На земле все больше неровностей. Срезаны снарядами сосны, жаль их.
Чернила замерзают в моей склянке...»
«27.Х. 1941. Нас в окопе промочило дождем и остудило ветром и снегом. Но все смеются. Нас развеселила твоя посылка — первая в части. Откуда такие вещи, как шоколад и сыр? Мы к такой пище не привыкши. Как там наш Ленинград? Ждем приказа, чтобы стукнуть немца».
«28.Х. 1941. Дни за днями катятся. У нас день это вечность. Помнишь май двадцать седьмого года? Хороша была сказка, но и ей пришел конец. К черту! Конец будет в Берлине. Приказано идти и стрелять из пулемета. Появилась цель. Иду, родные».
«29.Х. 1941. Мой привет принесет тебе проходящий мимо меня ладожский лед. В эту зиму он окостенит зловонного Гитлера, от которого по всему миру идет зараза.
Ты не любишь ненастье? Зря! Сейчас в небе ни одного самолета, только чайки. В амбразуру мне видно, как наши артиллеристы выкуривают гадов из дотов. Пусть мерзнут.
Вторые сутки на вахте. Отделение спит. Пулеметчик не спит. Эх, тяжела ты, доля пулеметчика, тяжела, но не горька. Вторым номером у меня Егоров, и поэтому его все зовут Егором. На самом деле он Евгений Петрович, татарин из Челябинска. Славный парень, хоть и не очень грамотный. «Сволочи,— говорит,— жить не дают. Только у нас в колхозе жизнь пошла, а они, собаки, войну затеяли». У меня с ним дружба.
Немцы бьют по нас из минометов, землей нас засыпает. А в воздухе ни одного стервятника. Наверно, на Москву пошли, но им и там дадут жару.
Как тебе понравилась статья Алексея Толстого? Я ему за эту статью медаль бы повесил. Хорошо сказано, что все разрушенное они восстановят сами. Заставим!»
Статья А. Толстого, которая так взволновала Николая Васильевича — это «Кровь народа», опубликованная в «Ленинградской правде» 26 октября 1941 года. Несколько ранее она печаталась в «Красной звезде». Написана статья в те грозные дни, когда на подступах к Ленинграду, с честью выполнявшему свой долг перед Родиной, враг уже захлебывался в собственной крови и когда «жребий славы и величия духа выпал на Москву». Именно в этой статье содержались слова, которые восхитили пулеметчика четвертой роты...
«31.Х. 1941. Почему раньше мы не знали цены обыденному? Например, баня. А театр сейчас кажется чем-то сказочным. С каким удовольствием уложил бы сейчас Светланку в постель и спел ей: «Спи, моя радость, усни!» Плюсквамперфект? Но еще будут Футурум I и Футурум II, еще мы поживем, станцуем и споем. Но вряд ли на Новый год, хотя чем черт не шутит — всякое бывает. Победу над фашистами отметим всем народом. Надеюсь, что среди счастливчиков будем и мы.
У нас снег лежит уже довольно толстым слоем, по Неве идет лед. Зима — новое наше оружие против врага... Пришли мне клубок шерстяных ниток и толстую иголку. Распусти какую-нибудь старенькую кофточку, а то у меня на перчатках и носках останутся скоро одни дыры. Валенки пришли к декабрю. Негоже надевать их осенью — замерзнешь зимой. Пришли зажигалку. Пусть на заводе сделают, а то мы бедствуем с прикуркой. Приходится курить реже, но сразу по две папиросы. Съестное не принимаю. Ешь сама, а то обижусь.
Дети не пишут, но я о них не беспокоюсь. Очень они хорошие, чтобы их можно было обидеть. Люди добрые не дадут».
И вот последнее письмо, полученное Любовью Гилевной из-под Дубровки:
«2.Х1. 1941. Снег у нас стал черным, На один участок поля сыплются сотни мин. По одному человеку бьют батареи. Гнусно, отвратительно, Надо уничтожить фашизм, чтобы такой мерзости не было. Шуму сегодня больше, чем обычно, я тоже выпустил сот пять.
Два дня мне везло: спал обе ночи. Красота! Позвонить мне тебе неоткуда. Была здесь фабрика, но она «таё». Позвоню из Берлина.
Ходил с двумя ведрами за обедом. Пока шел туда, упал три раза и на обратном пути — два, но не пролил ни суп, ни чай. Умылся снежком. Чувствую себя бодро и весело, Сегодня обязательно получу от тебя письмо, а то расстроюсь. Я не хочу умирать, но к смерти отношусь очень.просто: нисколько ее не боюсь и себя не жалею.
На небе снова луна. До чего же она противная, когда торчишь целую ночь в окопе! А льду на реке все больше, он несет тебе мой привет. Скороя по этой трассе прибегу к тебе на лыжах. Жди гостей, готовь угощение. A не приеду — сама угостишься.
Теперь у меня неладно будет со временем. Занят буду и днем и ночью. За ребят не волнуйся. Не пропадут. Ну, и мы тоже.
Шапка у меня есть, она называется подшлемником, а на нем каска. Вид грозный, для немца опасный, и поэтому он, подлец, от меня прячется...»
Писем от Николая Васильевича больше не было. Дома его ждали любимые книги, незаконченная работа, неосуществленные замыслы.
Любовь Гилевна ходила в институт, чтобы узнать о муже. Но там никто ничего не знал. В марте 1942 года она вместе с институтом выехала из Ленинграда. С великими мытарствами, еле живая, добралась до Окуловки — к детям. Проводники товарных вагонов, битком набитых сорванным с родимых мест бездомным людом, не спрашивали у нее билета, узнав, откуда и куда она едет. Сердобольная попутчица подвезла ее на санях к деревне. Навстречу выбежали повзрослевший Сергей и тоненькая длинноногая Светлана.
Село всем миром помогало матросской вдове растить пимкинских мальцов. Постаралась Матрена Михайловна поставить на ноги и вдову пулеметчика: раздобыла где-то картошки, конины...
А потом поехала Любовь Гилевна с детьми в Ярославль. И здесь не оставили ее добрые люди. Старый паровозный машинист Александр Иванович Никонов приютил сирот и вдову солдата у себя, помог устроиться на работу.
После войны на квартиру Пимкиных в Ленинграде частенько заглядывали товарищи Николая Васильевича по работе, его ученики. Играли с ребятами, приносили гостинцы. Не жалели, не терзали сердце воспоминаниями о муже. Сберегла, выходила детей вдова пулеметчика. Сергей окончил военную академию, защитил диссертацию и сейчас служит в армии. Светлана преподает в Ленинградском университете. Оба растят потомство. У Светланы — девочка Машенька, у Сергея — сын, названный в честь деда Николаем...
И еще одно письмо — Евдокии Андреевне Васильевой на Херсонскую улицу. Ждут ли его там, что там расскажут?
«ПРОЩАЙТЕ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ»
Над кроватью у Игоря — портрет отца, а под ним на ковре — ружье. Отец на портрете — молодой, глаза лихие, веселые, Ему тогда было двадцать семь, Игорь уже старше его. Только совсем не помнит его Игорь. Где-то в памяти живет смутное воспоминание: знойный летний день, пыльная листва бульвара, и веселый человек в белых бинтах протягивает руку через решетку, отделяющую больницу от улицы, а в руке изюм...
— Помнишь,— говорит мать,— мы ходили к отцу в госпиталь, когда лежал он раненный?
А разве вспомнишь?.. Только вот эта листва, бинты и изюм...
Оставшись дома один, любит Игорь рассматривать старые отцовские бумаги: удостоверение об окончании школы ФЗО на Невском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина, документ о присвоении квалификации слесаря, разные справки. Да еще извещение, полученное матерью в 1948 году: «Рядовой Мелешев-Васильев Николай Павлович, находясь на фронте, пропал без вести в ноябре 1941 года». И долго морщит лоб Игорь, старается представить: каким был отец, где воевал, в каком бою сложил голову? Ведь будь он жив, давно бы подал о себе весточку.
Семья рядового Мелешева-Васильева живет там же, где и раньше, на Херсонской, в доме 23, почти напротив типографии «Правда», но дорогу к дому преградил канат, протянутый через улицу. Проезд закрыт. Бомба...
Двадцать четыре года дремал этот 250-килограммовый слепой зверь рядом с густонаселенными жилыми домами и зданием, где печатаются газеты издательства «Правда». Старожил типографии — ее директор Н. А. Куликов рассказал:
— В годы осады Ленинграда наше здание, казалось, было одной из главных целей для вражеских летчик:в, В сентябре сорок первого на типографию обрушилась лавина зажигательных бомб, потом фугаски одна за другой рвались в соседних домах. Но наши ротации продолжали работать. Советские пилоты, доставлявшие нам матрицы «Правды», прорывались сквозь огонь вражеских зениток. Аэродром, на котором приземлялись самолеты из Москвы, находился под артиллерийским обстрелом. Но не было случая, чтобы за всю войну «Правда» хотя бы раз не вышла. И это бесило фашистов. 29 ноября 1941 года, когда над городом клубились низкие тучи, «Юнкерс» сбросил тяжелую бомбу. Но взрыва не было. Бомба упала на небольшой пустырь, в нескольких десятках метров от типографии. Этот гитлеровский «гостинец пытались обезвредить еще во время войны, но отыскать его тогда не удалось...
...Оказывается, бомба ушла на глубину более семи метров. Извлечь ее было нелегко, так как котлован пришлось рыть почти под стенами жилых зданий. Да и «гостинец» оказался не простым. Бомба была снабжена двумя взрывателями, часовым механизмом и особой ловушкой, которая приводит к взрыву при попытке вывинтить запальное устройство. Специалисты пришли к выводу; вывезти бомбу за город, чтобы взорвать ее там, нельзя. Значит, надо уничтожить ее на месте. Но в таком случае взрыв причинит много бед жилым зданиям и типографии. Решили сделать по-другому...
Район был оцеплен. Жителей спешно эвакуировали, больных и престарелых вывезли на машинах. Закрыли фанерой окна. Рев сирен возвестил о начале опасных работ.
По благородной традиции минеров в котлован спустились двое — самые старшие, самые опытные: инженер-полковник И. П. Новиченко и капитан Валерий Соколов. Эти двое оказались лицом к лицу со смертью. Бомба лежала на наклонном деревянном лотке, черная, тускло отсвечивающая металлом. Полковник и капитан осторожно отвинтили ее донную крышку, подвели к отверстию шланги с горячим паром и покинули котлован...
Твердая взрывчатка начала плавиться. Через полчаса первый взрыватель оказался за пределами бомбовой начинки. Еще через двадцать минут тротил отступил от второго запального стакана. Вскоре освободился от взрывчатки весь корпус бомбы. А еще через несколько минут один за другим прогремели два взрыва: уничтожили взрыватели. Подъемник извлек из дымящегося котлована бомбу, у которой вырвали ее смертельное жало. Капитан Соколов вытер рукавом вспотевший лоб и расцвел улыбкой...
Пришлось наведаться к Васильевым в другой раз.
Игорь был ошеломлен, услышав:
— Хочешь получить письмо от отца?
— Как от отца? A где письмо?
— Да письмо-то все изодрано, еле дышит. Придется зайти в редакцию. Завтра сможешь?
— Нет! Сейчас!
Он горел от нетерпения, но еще больше удивился, когда узнал, что отцовское письмо нашел под Дубровкой инженер В. В. Самарин, с которым он работает на одном заводе. И вот сын солдата бережно складывает один к одному обрывки истлевшей в земле бумаги, медленно шевелит губами, разбирая отцовский почерк:
«2 ноября 1941 года.
Добрый день, дорогие мама и Марусям Шлю я вам свой сердечный привет с фронта. Сообщаю, мама, что письма ваши я все получил и вам написал три письма, это четвертое. Почему вы их не получили? Написал я также письмо на завод, начальнику цеха тов. Аникееву... Просил его, чтобы помогли тебе заколотить окна фанерой.
Не знаю, мама, как устроилась моя семья, почему не пишет тебе Таня. Адрес ее я не знаю. Написал письмо для нее и послал Вале.
Почему Миша тебе не поможет? Видно, он очень занят или сильно расстроился, когда разбомбили его квартиру на Таврической. Я его так и не видел. Очень обрадовался, когда из вашего письма узнал, что Марусин Иван Сергеевич жив...
Скоро, мама, праздник 7 ноября, и как бы хотелось быть нам всем вместе, а мы все в разных местах, да сейчас и не до праздников.
Было бы хорошо, если бы вы смогли прислать мне теплый свитер, а то ночью холодно и спичек нет. Остаюсь пока жив и здоров. Еще раз шлю свой горячий привет вам, а также Вале, Наталье и Мише. Пишите, жду. Прощайте на всякий случай. Целую крепко, Ваш сын Коля».
— Да, это писал отец, это о нас он тревожился,— сказал Игорь.
— Да, это он, это его почерк,— подтвердила солдатская вдова Татьяна Борисовна Ильвова — та самая Таня, писем от которой с таким нетерпением ждал красноармеец Мелешев-Васильев осенью сорок первого.
...Не обмануло тебя тягостное предчувствие, воин. Видно, чуяло твое сердце, что не вернешься ты из боя в тот праздничный день, когда тебе было не до праздников. И не напрасно попрощался ты с родными «на всякий случай».
Не суждено было сбыться твоей мечте — собраться всем вместе за праздничным столом. Мама твоя Евдокия Андреевна, так и не получившая ни одного твоего письма, в старой своей квартире с выбитыми окнами пережила блокадную зиму, выехала весной сорок второго из Ленинграда, а когда в конце войны вернулась под родной кров, умерла. Подорвано было здоровье и голодом, и холодом, и тяжкой дорогой, и неизбывной материнской тоской по сыну, от которого не было вестей.
Нет уже и многих других твоих родственников, которым передавал ты свой привет. Зато выросли у тебя, солдат, славные ребята...
Ни одной слезинки не проронила Татьяна Бори-coma, читая мужнино письмо — первое и последнее за все долгие годы, прошедшие с начала войны. Берегла честь вдовы солдата, матери его детей. Все это время чтила она память мужа, не пощадившего ради Родины жизни, не словами, а тяжким трудом, неусыпной заботой о ребятишках. И только сейчас обмолвилась об этом.
— Дружная была у нас семья, ладная. Николай во всех нас души не чаял. Я сирота, ни отца, ни матери не помню. «Дочерью Октября» называли меня. Родилась я по старому стилю 25 октября 1917 года... Родители погибли во время гражданской войны, росла в детском доме. А когда завела свою семью, все силы ей отдавала. Женились мы с Николаем в тридцать пятом, через год родился Борис, а еще через год — Игорь. Муж работал техником, был очень начитанным и детишек любил без памяти. И о матери своей очень заботился.
А потом — война. В воскресенье 22 июня всей семьей ходили в зоопарк, оттуда поехали на кладбище, на могилу отца Николая — старого солдата Павла Васильева. Дома Николая Павловича ждали товарищи но работе: завод переводил коллектив на казарменное положение. Через несколько дней муж Татьяны Борисовны добровольцем вступил в истребительный батальон и спешно отправился под Лугу, где в начале июля прорвались германские танки, Был он там легко ранен, лежал в госпитале в Лесном. Вот тогда-то и ходили к нему ребята, и отец угощал их изюмом...
— В конце августа вместе с заводом вывезли нас на Урал,— вспоминает Татьяна Борисовна.— Мгу проскочили удачно. Немец нас почти не бомбил, а незадолго до нашего отъезда несколько эшелонов с детьми разнес вдребезги. Об одном горевала: малыши просили супа, а достать его было негде. Ехали целый месяц. Муж из госпиталя снова ушел в бой и не давал о себе знать. Да и адреса у меня долго не было постоянного, некуда было писать ему. Потом устроилась у чужих людей, сыновей отвела в детский садик, а сама пошла табельщицей на завод, где раньше работал Николай. Домой вернулась в сорок четвертом. В дороге заболела. В Москве делали мне операцию — флегмона руки. И опять не оставили нас в беде добрые люди. Случайная моя знакомая Наталья Александровна Гаславская приютила моих ребят, пока я лежала в больнице. А в Ленинграде на первых порах пришлось нам очень туго: голодно, холодно, ни денег, ни дров. Работала семь лет в прачечной, потом вернулась на свой завод. Вместе со мной поступил туда фрезеровщиком старший сын Борис. Игорь работает на другом предприятии. Оба учатся заочно. У обоих свои семьи...
Не сказала Татьяна Борисовна только о том, что сыновья уважают и берегут мать. За то, видно, что растила она их в нужде и горе, с малых лет приучала их к труду и самостоятельности и, оставшись вдовой в двадцать четыре года, не вышла во второй раз замуж.
У Игоря к отцовским документам; которые он бережет, как зеницу ока, прибавилась теперь еще одна бесценная реликвия. И когда подрастет eго сын Андрюшка, покажет ему Игорь последнее письма деда, сохранившее на себе следы огня и пороховой гари. Письмо дедушки, который навсегда остался двадцатисемилетним... И как будет гордиться Андрей тем, что он внук воина, дравшегося на дубровском плацдарме, где все были героями, где бой шел за каждый метр земли. И из поколения в поколение в семье Мелешевых-Васильевых, как и в тысячах других ленинградских семей, будут передаваться, превращаясь в легенды о солдатах, сражавшихся на самом тяжелом участке обороны Ленинграда и стяжавших себе там бессмертную славу.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |