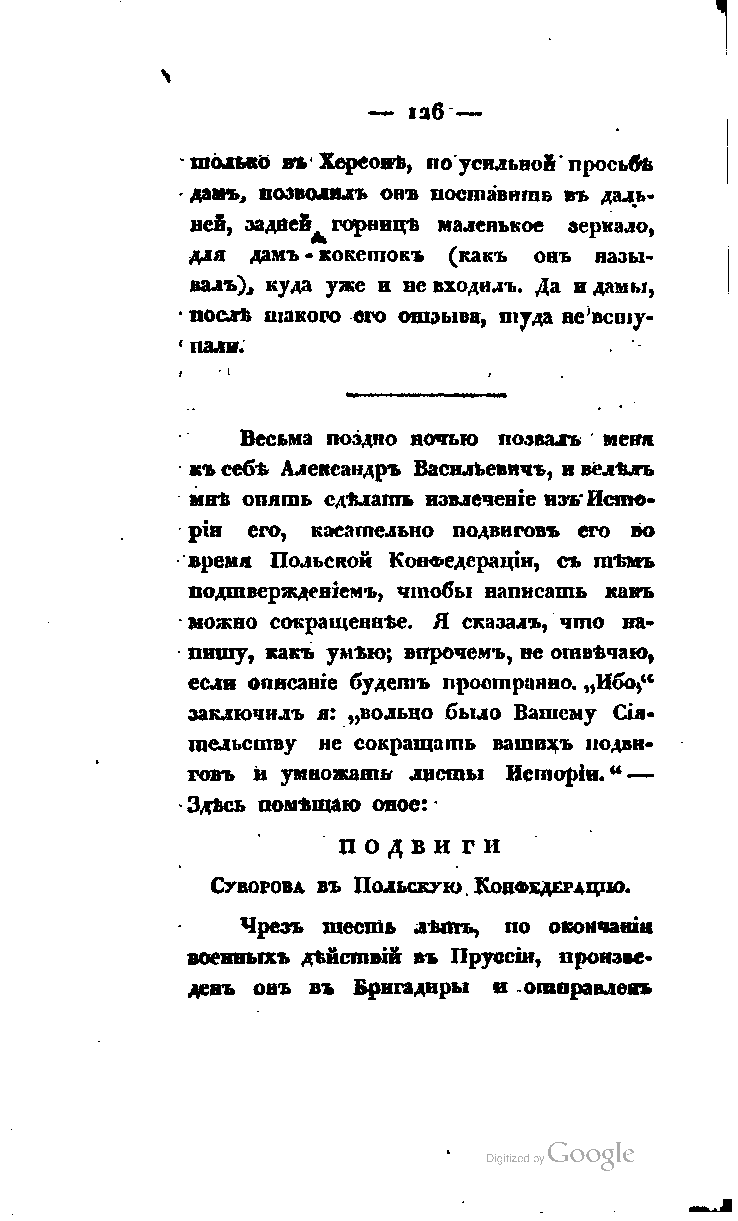 Подвиги
Подвиги
Суворова въ Польскую Конфедерацiю.
Чрезъ шесть лѣт, по окончанiи военныхъ действiй въ Пруссiи, произведенъ онъ въ Бригадиры и отправленъ с величайшею поспешностию в Польшу, где возникла война конфедератов. Ему должно было переправляться чрез едва замерзшие реки и болота. И в течение месяца прошел он тысячу верст (238 миль), а в другом походе 600 верст в 12 дней. Первый подвиг его в Польше был схватить ночью уланов Пелиаки и Корсинского, расположенных в окрестностях Бресции, и, без пролития крови, отделил он оба полка от Конфедерации.
Близ Варшавы разбил он Котелуповского, пошел на обоих Пулавских, разбил и рассеял их войска, состоявшие из 6000.
В генваре 1770 года, на сороковом году, произведен в генерал-майоры.
В апреле Суворов, переправясь с двумя ротами, тремя эскадронами и двумя пушками, пошел ночью к Клементову. Он встречается с Мосчинским, расположившим тысячу человек конницы близ лесу в боевой порядок, с шестью пушками. Две роты пехоты со штыками нападают на сию кавалерию, которая, невзирая на беспрестанную пальбу из шести орудий, была разбита и преследуема. Поляки потеряли свою артиллерию и 300 человек, а русские — только 50.
В половине того же лета, когда Мосчинский получил подкрепление, Суворов разбил его вторично при Опатове, побил 20Q человек и взял столько же пленных, большею частию раненых. Спустя несколько месяцев, Суворов, желая переправиться через Вислу в таком месте, где стремление было быстрое, упал в воду и разбил себе грудь об понтон так сильно, что три месяца лежал болен. В сем году получил он орден св. Анны.
По выздоровлении, в марте 1771 года, выступил он из Дублина с четырьмя ротами пехоты, несколькими пушками и с пятью эскадронами и переправился чрез Вислу у Сендомира. По разбитии разных партий конфедератов, атаковал он Ландскрону, в четырех милях от Кракова. При сильном сопротивлении овладел городом. Но ружейный огонь не умолкал и побивал многих, и он отказался от взятия замка. У него шляпа и мундир были прострелены пулями.
Вскоре за сим взял он врасплох город Казимир, расстроил большую часть конфедератов и взял в полон лучший эскадрон маршала Сабы.
Рассеяв конфедератов, которые несколько дней осаждали три роты его полка в Краснике, он пошел на Краков для освобождения принца Веймарского, там стесненного. Малочисленная армия его состояла: из четырех рот гренадерских, одного батальона мушкетер, восьми пушек и нескольких гаубиц, пяти эскадронов карабинер и 80 казаков.
Он имел разные сшибки с конфедератами и взял многих в полон. Войско его переправилось чрез реку Дунаец вплавь по шею; атаковали конфедератов, превосходивших их в числе. Они были разбиты и потеряли много людей.
По прибытии в Тынец, в расстоянии на одну милю от Кракова, велел Суворов напасть на редут, в котором находились две пушки и сто человек, которые все были побиты; потом казаки его отважно бросились на конфедератов, которые, числом около четырех тысяч, поставлены были в боевой порядок. Во фронте находились 150 егерей, под начальством французского майора. Они большею частью истреблены. Поляки, преследуемые Российскою кавалериею до пределов Шлезии, потеряли 500 человек убитыми и 200 пленными. В то время французской службы полковник Дюмурье, со многими своими офицерами, служил у конфедератов.
Суворов, возвращаясь после сер экспедиции в Дублин, был атакован драгунами и гусарами конфедератов. Его конница приняла их саблями и сильно отразила. Между тем Пулавский, с двумя тысячами, занял Замоцк. Весьма нужно было его оттуда выгнать; и когда Суворов в сем намерении выступил к нему, Пулавский его встретил; но во время, как становился дать баталию, Суворов совсем неожиданно кидается с своею кавалериею на его инфантерию; неприятель был опрокинут: потеря его состояла в 200 пленных и столько же убитых. По возвращении в Лублин, получил он орден св. Георгия третьей степени.
Суворов был в необходимости рассеять свои войска, для предупреждения в разных местах усиливающихся неприятельских скопищ. Это послужило полковнику Новицкому поводом поспешить нападением на него. Суворов, узнав, что он с тысячью человеками лучшей кавалерии идет на Красноставу, где у него стояли: эскадрон кирасир, несколько казаков и рота пехоты, велел его тревожить на пути; а сам, с шестью казаками и несколькими офицерами, пустился в Красноставу к своим. Новицкий был в соседственном лесу, Суворов достиг его. Конфедераты побили много наших; но наконец, после упорного сопротивления, неприятель был рассеян и преследован.
В августе 1791 года явился в Литве известный Козаковский, один из конфедератов, бежавших в Венгрию. С поспешностию объехал он герцогство, набрал новых партизанов и возжег пламя раздора, а особливо между регулярными войсками, которые склонил к возмущению. Он рассеивал манифесты, в которых скромно называл себя Литовским гражданином.
Великий маршал Литовский, Огинский, командовал новыми конфедератами. Он внезапно напал на русский батальон, который после сражения, чрез четыре часа продолжавшегося, должен был сдаться.
Как скоро Суворов о том узнал, спешил он к нападению на конфедератов, занимавших выгодную позицию при Сталовичах. Их было пять тысяч в ружье, с 12 пушками. Русские приступали ночью с величайшею тишиною и перехватили передовые караулы.
Пушечный выстрел конфедератов уверил наших, что они замечены. Тотчас рота бросилась на неприятеля; она потеряла много людей, но имела также и великие успехи. Три эскадрона шли по следам сих храбрых, поражая саблями справа и слева.
Конфедераты, приведенные в замешательство, при ночной темноте были опрокинуты и прогнаны до города. Триста янычар великого маршала Огинского положили тут свои головы.
Пятьсот человек русских пленных содержались под стражею в (разных домах близ рынка. При шуме оружия, а более при гласе (Суворова, выскочили они из окошек и соединились с своим отцом и героем.
На рассвете Суворов выступил из города с своею пехотою. Она напала на инфантерию Огинского с правого крыла. Его кавалерия одерживала уже значительные выгоды. С обеих сторон сражение продолжалось с жестокостию и кровопролитием. Наконец инфантерия двинулась со штыками; поляки были разбиты по всей линии. Но, по многочисленности своей, отступали они в порядке.
Кавалерия российская не переставала с своей стороны распространяться, как генерал Беляк, стоявший в полмили и намеревавшийся отмстить за польскую пехоту, сделал с тысячью уланов стремительное нападение. Многие русские были опрокинуты, но отважность казаков, которые в сей день показали чудеса храбрости, заставила Беляка оставить поле битвы.
Из 800 до 900 человек, бывших у Суворова под ружьем, около 80 были убиты, а все остальные ранены. Суворов, тронутый посреди славы их несчастием, раздавал из своего кармана по рублю на каждого, участвовавшего в деле; дал им с час отдохнуть и начал делать диспозицию к походу на Слоним, отстоящий в восьми милях от места сражения.
У поляков было убитых около тысячи человек. Русским достались 700 пленных, в числе которых и маршал Огинский и более 30 офицеров. Все лошади их драгун достались нашим, так как и многие знамена, экипажи и казна с тридцатью тысячами червонных. Солдаты делили между собою множество золота и серебра.
К вечеру все были близ Слонима. Оставив там пленных и большую артиллерию, Суворов еще в ту же ночь вступил в поход к Пинску, в намерении рассеять еще более конфедератов. Первая встреча была у него с польским офицером, которому поручено было вести богатую полковую казну. Суворов, как великодушный неприятель, дал ему пашпорт для свободного препровождения казны до места его назначения.
Желая не столько побеждать, сколько преклонять к покорности, он уговаривал литовских конфедератов возвратиться в свои дома. Он принимал с особым уважением тех, которые вверяли себя его великодушию, и вскоре повсюду восстановился порядок.
С самого вступления показал Суворов, что к военным талантам умел он присоединить дух примирения; ибо прекращал тогда возмущения и раздоры.
Таковые успехи обратили на него Монаршее благоволение, и Ее Величество препроводила к нему знаки ордена св. Александра Невского, при лестном рескрипте.
В генваре 1792 года польские конфедераты, направляемые бароном Виоменилем, взяли Краковский замок, в котором стоял пикет из тридцати русских. Суворов, узнав о их намерении, пустился тотчас в поход для отражения сего удара. Он опоздал; едва на рассвете вступил он в город, как ему должно было сразиться с сильною вылазкою конфедератов, которых число в замке простиралось до 900 человек. Тотчас Суворов начал с 800 пехоты и нескольким числом кавалерии блокировать замок; и едва не попался и сам, так сказать, в блокаду, быв окружен конфедератами, которые твердо боролись. Он с ними выдержал несколько сражений и оставался всегда победителем. Наконец блокада обращена была в штурм.
Суворов приказал объявить французским офицерам, командовавшим в замке, что все готово к штурму и что, при отказе в сдаче, весь гарнизон без пощады будет истреблен. В заключенной тотчас капитуляции сказано было, что весь гарнизон отдает оружие и выступает в мундире, что французские войска под начальством Виомениля будут отправлены в Лемберг, а под начальством Дюмурье — в Биалу. Польские же конфедераты — в Смоленск. Виомениля и Дюмурье не было в замке. Два бригадира, Галиберг и Шоази, так как и другие французские офицеры, отдавали свои шпаги Суворову; но он не принял, под предлогом, что они в службе Государя, союзника его Императрицы, и обнял их.
Пленные отправились под сильным прикрытием; и хотя у Суворова оставалось мало войска, но он успел еще напасть и схватить гарнизон в Заторе, городе в 12 милях от Кракова. Он велел взорвать все укрепления и взял 12 пушек.
В сие время австрийцы и пруссаки выступили также против конфедератов; и кончили войну, продолжавшуюся четыре года. Суворов получил начальство в Финляндии.
После сего никаких извлечений я не делал; а князь намеревался заняться сим со мною в деревне Кончанске. Но Провидение распорядило иначе. Он скончался в Петербурге.
Приехавший из Неаполя курьером, офицер рассказывал о тамошних прелестях природы, о ужасах Везувия, о землетрясениях.
«Был ли ты,— спросил Александр Васильевич,— в Помпее, которая после столь многих столетий сбросила с себя погребальное свое покрывало и выглядывает из своего гроба?». «Был»,— отвечал тот и начал рассказывать много любопытного. Выслушав со вниманием, обратился ко мне с сими словами: «Люблю слушать повествования от самовидцев. Сыщи описание о Помпее Старшего Плиния и переведи для меня». Чрез несколько дней отыскал и прочитал я ему следующий перевод с латинского: «Плиний пишет: «Настал мрак, но не такой, какой бывает в безмесячной ночи, а темнота в запертой горнице, в которой свет свеч вдруг угасает. Жены рыдали, дети визжали, мужья вопияли. Здесь призывали с трепетом дети родителей своих, там отцы и матери искали детей своих ощупью, мужья своих жен; все узнавали друг друга только по крику. Одни жаловались на собственную судьбу свою, другие оплакивали судьбу ближних своих. Многие желали смерти от страха смерти. Те умоляли богов о спасении, те отчаивались в существовании их и почитали сию ночь последнею, вечною всего мира. Действительные опасности были увеличены вымышленным страхом. Земля тряслась непрерывно, и полоумные толпились, умножая ужас других своими предвещаниями».
Тут Суворов содрогнулся и с чувствительностью воскрикнул: «О, человеки осьмнадцатого столетия! Вы ползаете по развалинам давно прошедших веков, говорите о тленности и разрушении вещей, а поступаете, как будто бы этого и не было».
Суворов жил для России. Слава чудо-богатырей была близка к его сердцу. «Люблю их,— говорил он по переходе чрез Альпийские горы,— с сими чудо-богатырями наделал я вихри, с ними прилетел от Рымника сюда». Потом, обратясь к войску, продолжал: «Штыки, быстрота, внезапность — вот наши вожди. Неприятель думает, что ты за сто, за двести верст; а ты, удвоив, утроив шаг богатырский, нагрянь на него быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля; а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него как снег на голову; рази, стесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться: кто испуган, тот побежден вполовину; у страха глаз больше, один за десятерых покажется. Будь прозорлив, осторожен; имей цель определенную. Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед; поравняйся, обгони — слава тебе! Я выбрал Кесаря. Альпийские горы за нами — Бог пред нами: ура! Орлы русские облетели орлов римских!»
«Знаешь ли ты,— спросил он вдруг вошедшего к нему генерала Милорадовича,— трех сестер?» «Знаю»,— был ответ. «Так,— подхватил Суворов,— ты русский; ты знаешь трех сестер: Веру, Надежду и Любовь. С ними слава и победа, с ними Бог!»
Суворов весьма любил в мирное время заниматься маневрами. Знатоки-очевидцы отдавали справедливость редким его в военном искусстве знаниям и хитрым замыслам. Он, по отзыву генерала Дерфельдена, доходил до педантства, но до педантства полезного и похвального. Так, усмотрев на маневре в Финляндии, что поставленная в резерве колонна теряет время и на помощь идти не думает,— прискакал к командовавшему оною подполковнику и кричал: «Чего ты ждешь? Колонна пропадает, а ты не сикурсируешь». «Ваше сиятельство! — отвечал подполковник.— Я давно бы исполнил долг мой, но ожидаю повеления от генерала, предводительствующего сею колонною». Сей генерал-майор находился тут же в нескольких саженях. «Какого генерала? — сказал Суворов.— Он убит, давно убит! Посмотри (указывая на него) вон... и лошадь бегает — поспешай!» — и ускакал прочь.
Когда под Нови Суворову сказали, что одним отрядом французских войск командует польский генерал Домбровский, сказал он: «Ах! как я рад. Это знакомый. В польскую войну сей мальчик-красавчик попался в полон. Я его тотчас отпустил к маменьке, сказав: беги скорее домой — и мой поклон, а не то русские тотчас убьют. Как бы я хотел возобновить с ним знакомство!»
Говорили о Праге. Один союзный генерал показал вид, будто взятие ее не есть дело очень важное. Александр Васильевич, заметя сие, тотчас велел мне перевесть из Сувороиды Завалишина примечание о ее укреплениях, прибавя к тому, что хотя оно и кратко, но справедливо, потому что подполковник Фанагорийского гренадерского полка Завалишин был действующим лицом и очевидцем. Здесь помещаю: «Прага, предместие Варшавское, лежащее на правом берегу реки Вислы. Она была укреплена всем тем, что военное зодчество имеет в себе наинепреоборимейшего. Высокие валы с глубокими рвами; бермы, усыпанные штурмфалами; крутости, повсюду дерном одетые, усеянные тройными палисадами; батареи, камнем обложенные; кавалиеры, на возвышениях поделанные; отступные флеши, ретираду обеспечивающие; двойной окоп, в перекрестных огнях расположенный; наконец шестерной ряд волчьих ям с заостренными спицами, вокруг всех укреплений обнесенный; более ста ревущих орудий и 30000 отважного решительного войска — все сие пало и превратилось в прах разящим мечом Сарматского победителя. Упорная оборона соответствовала быстроте атаки. Каждое укрепление надлежало брать приступом. Каждый шаг земли надобно было приобретать кровию. Польские войска по сбитии передних ретраншаментов устроились в боевой порядок перед вторым окопом. Надобно было их атаковать; тут последовала полевая баталия. Начальники их, сохраняя присутствие духа, не переставали собственным своим примеров поощрять своих подчиненных к усугублению обороны и тем, противопоставляя беспрестанно новые преграды, вдыхали отважность в сердца, с каковою Сарматы, имевшие в тылу своем трепещущую от страха Варшаву, сражаться в продолжении всего боя не преставали. Всякое другое ополчение едва ли бы превозмогло столь сильное и отчаянное защищение; но россияне, предводимые Героем, пылающие истинною любовью к отечеству, подвизаяся по следам непобедимого своего военачальника, славою его озаряемые, мужеством его дышащие, сокруша Сарматские силы, показали изумленному свету, что под предводительством графа Суворова-Рымникского нет ничего для них невозможного. Четыре генерала: Ясинский, Корсак, Квашневский и Грабовский, с 13540 воинами, погреблись под развалинами изпровергнутой Праги. Генералы Меин, Гизлер и Крупинский, с 5 полковниками, 7 подполковниками, 17 майорами, 4130 офицерами и 14000 рядовых, взяты были в плен. До 2000 потонуло в Висле; и не более 1000 человек из всего числа оборонявших спаслось в Варшаву. 104 пушки, множество знамен, костры холодного оружия — суть вечный памятник сего бессмертного дела, заключающего в себе штурм на крепость и полевое сражение, оконченного в продолжение 3 часов времени, в 1794 году октября 24 дня воспоследовавшего», — прочитав, казался он недоволен хвалою, до него относящеюся, и сказал: «Ну, отправь к Фоме». И я отослал к помянутому генералу.
Князь Александр Васильевич любил все русское, внушал любовь к родине и повторял нередко: «Горжусь, что я россиянин!» Не нравилось ему, если кто тщательно старался подражать французам в выговоре их языка и манерах. Такого французоватого франта спрашивал он: «Давно ли изволили получить письма из Парижа от родных?» Еще в бытность его в Финляндии, один возвратившийся из путешествий штаб-офицер вывез из Парижа башмаки с красными каблуками и явился в них на бал. Александр Васильевич не отходил от него и любовался башмаками, сказав ему: «Пожалуй, пришли мне башмаки для образца вместе с изданным в Париже вновь военным сочинением Гюберта (Guibert)». Последним не успел наш молодец там запастись и убрался с бала. Также сказал он чтецу на французском языке: «Читай и говори по-французски так, чтобы все знали, что ты русский». А когда в театре итальянский актер говорил ему пролог, то он кричал по-русски из ложи: «Напрасно, сударь, не беспокойтесь, стою ли я того?» Не буду говорить, какую тревогу, кутерьму произвели русские слова сии на всю итальянскую публику — буффу. И воздух наполнился восклицаниями: «Ewiva nostro Liberatore!», т.е. да здравствует наш избавитель! — «Пусть они знают, что здесь были русские»,— сказал он.
В одном анекдоте говорил я, что граф часто приказывал мне иметь надзор за карточными играми. Таковая, истинно отеческая, заботливость его нигде так не оправдывается, как здесь, в Италии, где зло сие сделалось стихиею всей первостатейной, праздной, необразованной знати. В Турине был я приглашен на вечер, что здесь называется conversazione (беседа (ит.)). Полагая насладиться приятною беседою, отпросился я у моего начальника. Он позволил мне, с тем, чтобы я пересказал ему о всех подробностях сей вечеринки. Я отправился с вожатым моим, почтенным, бывшим при Дворе Екатерины чрезвычайным посланником и воспоминавшим всегда с восторгом о пребывании своем в России. Дорогою сказал он мне: «Я везу вас в дом одной знатнейшей нашей дворянской фамилии; но должен признаться и предварить вас о том, чего вы и не думаете, и в Петербурге,— благодарение утонченной образованности вашей,— не видали и, конечно, не пожелаете никогда более увидеть. Но вы путешественник; вам надобно быть очевидцем». Мы вступили в залу. Я представился хозяину и хозяйке. Принц и принцесса пробормотали что-то, и я — уже домашний человек. Музыка гремела; не танцевали, а прыгали, и то нехотя. Чего-то ожидали важнейшего. Чрез час музыка прекращается; у всех на лицах радость; свечи в зале погасают, все бегут в другие горницы, где несколько столов с картами и с плетеными склянками ликера розолио. Начали играть в банк, фараон и другие азартные игры: коммерческих они не знают. Но как я удивился, когда за сими столами увидел: старушек, покрытых морщинами, изнемогающих, держащих карты дрожащими костяными своими ручками, но с прездоровыми языками; прелестных в цвете лет дам, у которых при проигрыше выступал на розовых щеках румянец гнева, бешенства и ярости, а иногда бледность отчаяния. И зеркала их не укрощали. Вначале была безмолвная тишина, так что, когда какой-то кавалер хотел мне рассказать нечто о Турине, все зашикали — и он, не кончив, тотчас умолк. Но после, в продолжение игры, когда слепая фортуна раскидала дары свои по столам — одному грудами, а другому ничего, кроме нищеты,— возник ропот, крик, остервенение. Если два спорящие итальянца криком своим угрожают разорвать ваш тимпан, то вы можете себе представить гром нескольких сотен, прерывающийся несносным визгом дам. На сие немалое влияние имел и розолио, который особы обоего пола вкушали беспрестанно в горницах, где от спершегося воздуха едва можно было дышать, а свечи тускло горели и угасали. Тут раздавались слова, какие едва ли услышишь в другом месте. И это называют конверсациони, беседы дворян? Бегу из неприятного дома. Я здесь не увеличиваю: в сем оправдают меня путешественники.
На возвратном пути домой рассказывал мне сопутник мой, что этот хозяин дома, Принчине, был на замечании у короля, который предостерегал иностранцев, в бытность в Турине, от опасного с ним знакомства; что он в паю со всеми игроками и оттого имеет весьма значительный доход. На вопрос мой, часто ли бывают такие конверсациони, отвечал он: 365 раз в году. «Ибо, — продолжал он, — многие земляки мои ничего не читают, ничему не учились, ничего не знают, кроме прогулки, театра и игры. Чернь же здешняя гибнет от несчастного лото. Нищий несет в лотерею последний грош, полученный в милостыню, и умирает с голоду. Я кончил тем: «И это называют здесь: dolce far niente?» ( сладостное ничегонеделание (ит.))
Все сие пересказал я Александру Васильевичу. И после всего спросил он меня: «У европейцев ли ты был?»
Александр Васильевич любил отменно итальянские простонародные песни и находил в них какое-то сходство с русскими, а особливо, если итальянец поет вдали, в чистом поле. Тогда внезапно переселяешься в Россию. Надобно только зажмуриться, иначе оливные и лимонные деревья разрушат такое очарование. Обеих наций народные мелодии происходят от древних греческих, что тотчас услышишь, когда сравнишь с греческими отрывками, которые сохранил Винкельман, как замечает и Коцебу. Граф предпочитал пение всем инструментам, называя инструментальную музыку подражанием вокальной, и имел всегда при себе ноты духовным концертам, которые пел с певчими на клиросе.
В Италии на театре дана была пьеса, на которой представлены буффонады и войско должно было делать разные военные эволюции. Оно превзошло всякое ожидание. Стройность, размеренные шаги, точность в движениях — все восхитило зрителей. Александр Васильевич, говоря о сем представлении, сделал свои замечания: «Нет, комедь мне не нравится; старик-шут гаэрил скоромно; нравственной цели не вижу: вся пьеса из лоскутков, как и арлекинское платье. Солдаты дрались храбро; зачем не показали они такого проворства против французов?»
Однажды приказал мне Александр Васильевич отыскать в бумагах его диплом на чин фельдмаршала. Я отвечал, что отыскивать нечего, потому что его нет. «Как! — вскрикнул он, при многочисленном собрании.— По чему же будут меня почитать и признавать фельдмаршалом?» Вот мой ответ: «Ваше сиятельство донесли Императрице: ура! Варшава наша! Ответ: ура! Фельдмаршал! Екатерина. Вслед за сим удостоились вы получить от Монархини следующий Высочайший Рескрипт: «Вы знаете, что как Я не произвожу , никого чрез очередь и никогда не делаю обиды старшим: но вы, завоевав Польшу, сами сделали себя фельдмаршалом».— «Расскажи,— продолжил он,— все это на всех языках; а я покамест умоюсь, пополощусь и поговорю по-турецки». И ушел.
О бескорыстии князя говорить излишне; но я почел за нужное истребовать от цалмейстера Российской армии, майора Раевского, I справку, в которой за подписанием своим свидетельствует он ales'дующее: «Генваря 16 дня 1800 года, генералиссимус в Праге получил жалованье по чину генерал-фельдмаршала и во все время последней кампании никогда не брал ни столовых денег, ни прогонов. Да и сие жалованье принять его принудили, потому что не было ни копейки на домашние его расходы».
В одном городе, помнится в Пиаченце, вбегает к графу генерал-лейтенант Повало-Швейковский, страстный любитель живописи, упрашивает его взглянуть на оригинальную картину Рафаэля в картинной галерее, за две комнаты от него. Александр Васильевич отвечал: «Хорошо, пойду; но всегда смеюсь я над легковерием вашим, господа дилетанты; в России, во Франции, Англии, Германии, Италии, во всяком несколько значительном городе Европы показывают оригиналы Рафаэля. Если бы он и в каждую неделю изготовлял по картине, то и тогда не мог бы выставить такого запаса; а он, к сожалению художеств, умер в цвете лет. Это шампанское вино, которое во всех пяти частях света пьют за Шампанское, а малая Шампания едва ли может оным продовольствовать и одну Францию.— Не приносили ли в жертву славе великого учителя сего и ученики его таланты свои? Мы видим в картинах его не одну и ту же кисть». После того не пошел, а побежал он в галерею. Там остановился пред одною огромнейшею копией. Долго на нее смотрел и Произнес: «Это величина, но не великое, — не величественное: я вижу не Александра, а юношу красавца, и не героя, принимающего падающую пред ним пленную Царицу: подвиг великодушия, торжественнейшая минута во всей его Истории! В чертах лица его сей души его не вижу». Хозяин дома, удивленный многими рассуждениями о живописи, вскрикнул с итальянским жаром: «Если Ваше сиятельство рассматриваете и разбираете так и планы ваших баталий, то неудивительно, что победа с вами неразлучна».
Должно признаться, что кампания наша в Италии и Швейцарии отличалась от всех предшедших своими двумя театрами. Италия усеяна останками древнего ее величия, которые противоборствовали векам и устояли от всеразрушавшего нашествия варваров. Готфы сокрушили памятники ее. Хищная Беллона новых вандалов не пощадила и последних ее сокровищ; но не стерла она ее с лица земли: везде является картинная ее природа; и на очаровательных полях ее срывали наши воины ярко зеленеющие лавры. Какие видели мы разительные явления! И каждый из нас сожалел от восторга, зачем не живописец! — На Альпах какая противоположность! — там прелестны прелести ужасов — под ногами могилы. У подошвы одной превысокой крутой горы стоял Суворов, безмолвно и неподвижно смотрел: как армия подымалась, карабкалась гусем; как по мере возвышения воины уменьшались, а достигшие вершины казались точками, в тумане исчезающими; как с высоты сего колосса ревел водопад и низвергался с своими паровыми тучами и густым водяным дымом, в которых солнце златыми лучами рисовало многоцветную радугу. Такое волшебство оптики исторгло из сердца старца отголосок всего войска: «Зачем я не живописец? Подайте сюда сухопутного Вернета, который бы увековечил сие единственное, быстро пролетающее мгновение теперешнего бытия нашего!»
Но где его взять? Надобно, чтобы он был и живописец, и поэт, чтобы родил в душе и цепенеющее удивление и чувство! Какая кисть перенесет на холодный холст сие порывающееся на смерть воинство, забывающее теперь, что оно смертно? Как изобразит она сии, с каждым шагом изменяющиеся, декорации здешнего чудесного мира; и какая кисть, в руке и вдохновенного смертного, удобна обнять таковую огромность природы, со всеми бушующими ее стихиями? Довольно — мы перешагнули Альпы!
Говорили о бывшем вступлении в Рим французского генерала Бертье и о грабительствах и злодеяниях там республиканцев-французов. Александр Васильевич, вздохнув из глубины сердца, произнес «Если бы я вступил в сию столицу мира, то строго запретил касаться памятников, святотатствовать. К ним должно благоговеть. Они торжество древности, а нашего века — отчаяние. Но велел бы срыть до основания ту башню, которая, как мне сказывали, стоит близ садов Мецената, где Вергилий и Гораций песнями своими обессмертили сего покровителя своего. С сей-то башни чудовище Нерон тешился вожженным им пламенем Рима и воспевал на арфе пожар Трои. Память такого исчадия ада должна изгладиться навеки». Суворов! Ты не видел пожара твоей колыбели, не видел наших дней — Нерона в священном Кремле!
Александру Васильевичу не нравилось, что все надписи на новейших памятниках в Италии и Германии на латинском языке, и сделал сие замечание одному ученому итальянцу. Тот утверждал, так как слова надписей должны помещаться на тесной каменной доске, то латинский язык, по краткости и силе своего слога, сего приличнейший и назван лапидарным от слова: lapidarius, камень. Но вот ответ графа: «Вы хотите памятниками обнародовать, воскресить событие умершее; зачем же не живым языком? А Вы, вместо того, похороняете оное в мертвом. Несколько тысяч дан проходят, позевывают и уходят, не узнав, кому и за что это сооружено. Только десяток латынщиков глубокомысленно рассматривают. Латинский язык имел свои эпохи, когда все европейцы ему учились. Теперь каждый народ имеет свой. И русский наш лапидарный: «Петру Первому Екатерина Вторая».
По окончании итальянской кампании генералиссимус поручил мне сделать историческое обозрение всех военных ее событий. Я извлек оное в хронологическом порядке из военного журнала, который по Высочайшему повелению вел при армии, и заключил следующими словами: «Так знаменито оканчивается война сия. Она раскрыла всю пользу наступательной системы и холодного ружья Суворова. Он первый показал также, что крепости не остановить полета победителя; что, разбив с быстротою неприятеля, надобно уметь пользоваться победою и, преследуя его неутомимо, не дать ему времени опомниться. Война сия научила наконец людей противостоять силам природы и презирать все стихии разрушения. Ни трескучие морозы, ни громовые низвержения ледяных, земляных и каменных глыб, ни неприступность крутых гор не удерживали парения воинственного духа. Вечно лучезарные вершины альпийских колоссов забагрели кровию, и Суворов, подобно Агезилаю, может воскликнуть: «Пределы России на концах штыков русских!» Он воскликнул: «Напрасно; это дело потомства». Я отвечал: «Пусть современники передают высокую славу своего века грядущим столетиям». Он умолк.
Один офицер, кроме воды, ничего не пил, но был пренесносный, пустой болтун. Князь прозвал его Водопьяновым и сказал: «Он пьет одну воду, но и без хмелю колобродит пуще пьяного. Зато есть у меня приятель К.., который, в духе ржаных и виноградных соков, поет Гомером и воспел Велизария». Сим именем называл он иногда себя.
После Новийского сражения вхожу я к фельдмаршалу для получения приказания писать реляцию. Он с восторгом восклицает:
Конец — и слава бою! Ты будь моей трубою.
Князь, заметя одного иностранца, казавшегося приверженным французской революции, сказал ему: «Покажи мне хотя одного француза, которого бы революция сделала более счастливым? При споре о том, какой образ правления лучше, надобно помнить: что руль нужен, а важнее рука, которая им управляет...».
Один офицер, впрочем, достойный, нажил нескромностию своею много врагов в армии. Однажды граф позвал его к себе в кабинет и изъявил ему сердечное сожаление, что имеет одного сильного злодея, который ему много, много вредит; тот начал его спрашивать, не такой ли Н.Н.? Нет, отвечал Александр Васильевич. Не такой ли граф Б.? Опять ответ: нет. Наконец, с трусостью, чтобы никто не подслушал, запер дверь он ключом. «Теперь,— сказал он ему тихонько,— высунь язык, вот — твой враг».
Князь Николай Васильевич Репнин отправил к Суворову с поздравлением майора, ему преданного и пребойкого. Александр Васильевич, приняв его превежливо, старался всячески уловить его в немогузнайстве, но никак не успел в том. На вопросы, сколько на небе звезд? Сколько в реке рыб? — сыпал тот миллионы. Наконец делает ему вопрос: «Какая разница между князем Николаем Васильевичем и мною?» Ответ затруднительный, но майор не теряет присутствие духа и ответствует: «Разница та, что князь Николай Васильевич желал бы меня произвесть в подполковники, но не может; а Вашему сиятельству стоит лишь захотеть». Это фельдмаршалу так понравилось, что он его тут же, по данной ему власти, поздравил с сим чином.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
